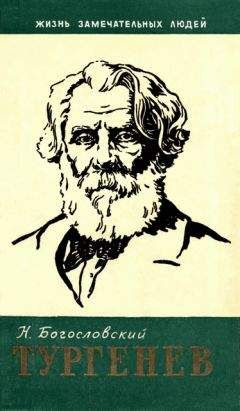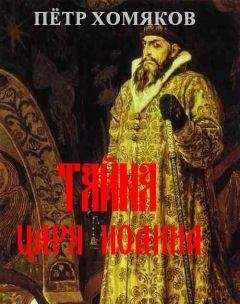Однако сам автор их недолго был убежден в том, что он призван быть драматургом. Позднее он склонен был думать, что пьесы его более пригодны для чтения, нежели для сцены.
Тонкая психологическая пьеса «Месяц в деревне» (к замыслу которой, возникшему еще в 1848 году, Тургенев возвращался несколько раз, пока не обработал пьесу окончательно) явилась как бы завершением его творчества в этом жанре.
От этой комедии, проникнутой глубоким лиризмом, прямо протянуты нити к драматургии Чехова. С тургеневскими пьесами его пьесы роднит не только реалистическое изображение противоречий русской действительности, но и близость приемов их построения: простота сюжета, отказ от сценических эффектов, сведение к минимуму внешнего действия и углубление чисто психологической обрисовки персонажей.
Вот почему К. С. Станиславский, работая над подготовкой спектакля «Месяц в деревне» (1909 г.), применял те же режиссерские приемы, что и при постановке чеховских пьес. В книге «Моя жизнь в искусстве» он пишет, что благодаря этому спектаклю в Московском Художественном театре, впервые были замечены и оценены результаты его «долгой лабораторной работы».
Отказавшись от обычных актерских приемов, Станиславский стремился к глубокому проникновению в психологический рисунок каждой роли, понимая, что основу тургеневской пьесы составляет «внутреннее действие».
Превосходно сыграв роль Ракитина, сам он принес на сцену театра новый, необычный тон и манеру игры и еще больше оттенил этим особенности своего нового метода.
В часы, свободные от творческой работы, Тургенев усердно изучал в Париже испанский язык. Он даже взял себе с этой целью учителя — сеньора Кастеляра. «Мы каждый вечер собираемся у испанского brasero и говорим по-испански», — писал он Виардо.
Стремясь усовершенствовать знание этого языка, Тургенев переводил «Манон Леско» с французского языка на испанский и начал, по совету Кастеляра, переписку с другим его учеником.
Вскоре Тургенев уже приступил к чтению в подлиннике драматических произведений Кальдерона — «Поклонение кресту», «Жизнь — есть сон», «Чудесный маг», а затем и к углубленному штудированию «Дон-Кихота» Сервантеса, в чем ему немало помог муж Полины Виардо, Луи Виардо, переведший еще ранее этот роман на французский язык.
Драматургия Кальдерона привлекла внимание Тургенева потому, что она, по его мнению, выражала самую сущность своего народа и времени. «Читая эти прекрасные произведения, чувствуешь, что они выросли на благородной и могучей почве: их вкус и благоухание просты, литературная подливка здесь совершенно не чувствуется. Драма в Испании была последним и самым лучшим выражением наивного католицизма и общества, созданного им по своему подобию».
Однако в тургеневских оценках творчества Кальдерона вскоре начинает проступать внутреннее противоречие. Тут поэт как бы в споре с философом. Поэт восторгается замечательным искусством испанского драматурга, но идейная основа кальдероновских пьес, в которых слишком явственно звучит голос мистика и религиозного фанатика, в сущности, была чужда Тургеневу, испытавшему тогда сильное воздействие материалистической философии Фейербаха, которого он считал самым талантливым и оригинальным философом эпохи. В высказываниях Тургенева о Кальдероне встречаются формулировки, созвучные тезисам Фейербаха. Разбирая драму «Поклонение кресту» он говорит о «торжестве разума», который возвышает человеческое существо до того «фантастического божества, игрушкой которого оно себя считает. И это божество есть тоже творение его руки».
Пояснения Тургенева заканчиваются полемически: «Пусть я буду атом, но я сам себе владыка; я хочу истины, но не спасения, и ожидаю получить ее от разума, а не от благодати».
Первоначально. Тургенев, увлеченный поэтическим мастерством Кальдерона, считал возможным сопоставлять его с Шекспиром и Гёте, сравнивать принца Сехизмундо («Жизнь есть сон») с принцем Гамлетом, а драму «Чудесный маг» называл испанским «Фаустом». Но несколько позднее, глубже изучив творчество Сервантеса, он убедился, что не драмы Кальдерона, а «Дон-Кихот» является величайшим творением испанской и мировой литературы.
Роман Сервантеса, в котором Тургенев почерпнул впоследствии богатый материал для своей большой статьи «Гамлет и Дон-Кихот», стал с той поры одним из самых любимых произведений Тургенева, предполагавшего перевести его со временем на русский язык.
ГЛАВА XVI
В ГРОЗНЫЕ ДНИ 1848 ГОДА
В конце ноября 1847 года революционеры-эмигранты, проживавшие в Париже, собрались, как обычно, на банкет, чтобы отметить дату польской революции 1831 года. На этом собрании выступил с горячей речью Михаил Бакунин. «Тут, — говорит Герцен, — в первый раз увидели русского, открыто протягивавшего братскую руку полякам и всенародно отрекавшегося от петербургского правительства. Влияние его речи было огромно». Выступление Бакунина показалось властям настолько опасным, что ему было предписано покинуть пределы Франции. Он перебрался в Брюссель.
Туда же в начале 1848 года приехал и Тургенев. Возможно, что эта поездка была предпринята им для свидания с давним другом, который продолжал по старой памяти делиться с ним своими замыслами и планами, связанными с революционной работой.
Весть о февральской революции 1848 года во Франции застала обоих друзей в бельгийской столице.
Много лет спустя Тургенев рассказал об этих днях в очерке «Человек в серых очках».
Молодостью, энергией, жадным интересом к совершающимся событиям веет от этих страниц. И сам автор их, которого мы привыкли представлять себе таким уравновешенным и невозмутимо-спокойным, предстает здесь перед нами иным.
Ранним утром 26 февраля Тургенев, находившийся в гостинице, услышал вдруг, как наружная дверь ее распахнулась и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!»
Вскочив с кровати, он выбежал из комнаты и увидел в коридоре стремительно мчавшегося гарсона гостиницы, который поочередно распахивал двери номеров, направо и налево, и громко выкрикивал все ту же фразу.
Через полчаса Тургенев был уже одет, уложил вещи и поспешил на вокзал. В тот же день он выехал в Париж, вероятно вместе с Бакуниным, который тоже покинул Брюссель при первом известии о революции.
«На границе сняты были рельсы; спутники мои и я, — вспоминал Тургенев, — мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ — и к вечеру прибыли в Понтуаз… Рельсы около Парижа были также сняты… Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» Республики Антоний Турэ; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою… 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая до Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим встречным. Были раненые — но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!»