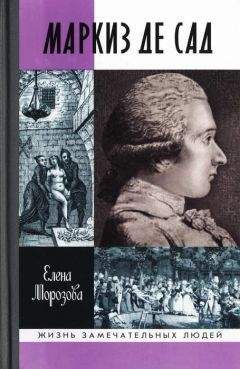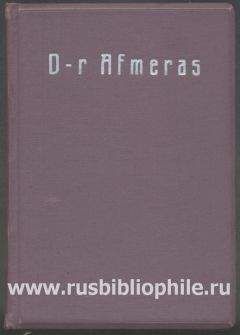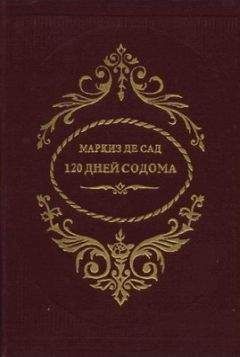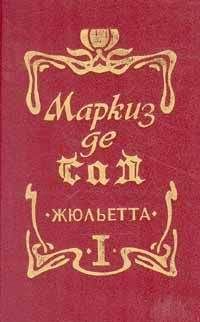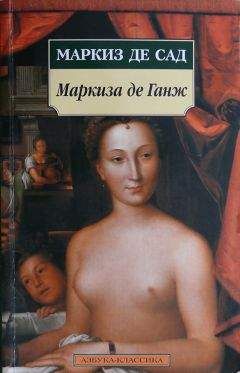Де Сад пробыл в Миоланской крепости четыре месяца и двадцать один день — с 9 декабря 1772 по 1 мая 1773 года. За это время он извел литры чернил на жалобы и письма — и, видимо, не только на них. Предупреждая коменданта Миолана и губернатора Савойи о необходимости держать де Сада в строгой изоляции, мадам де Монтрей особенно настаивала на проверке его корреспонденции: она опасалась, что де Сад успел отпечатать в Женеве памфлет, в котором содержались оскорбительные выпады и угрозы в адрес семьи его жены, главным образом в ее собственный адрес. Это косвенное свидетельство вновь говорит о том, что лавры литератора не давали де Саду покоя задолго до его заключения в Венсен. Устанавливая связи с издателями, де Сад, невзирая на свое древнее дворянство, активно стремился стать членом Литературной Республики. А если пера его опасалась сама Председательша, значит, таланта ему было действительно не занимать: мадам де Монтрей не стала бы беспокоиться из-за бездарной писанины.
Маркиз де Сад, тридцати трех лет от роду, сеньор Ла-Коста, Сомана и Мазана, перешел на положение нелегала. Перед беглецом из Миоланской цитадели было две дороги: отдать себя в руки правосудия и требовать пересмотра дела или скрываться до тех пор, пока правосудие само не найдет его. Он выбрал вторую — надеясь, что все как-нибудь уладится само собой. Он до сих пор не допускал возможности того, что может быть наказан за «выпоротую задницу какой-то шлюхи». Впоследствии в новелле «Одураченный председатель» он припомнит своим судьям и Аркейское дело, и приговор, вынесенный парламентом в Эксе, и марсельское расследование. «…Напомните парижским судьям <..,> знаменитый случай, произошедший в 1769 году. Тогда судьи, повинуясь велению сердец, взволнованных гораздо больше при виде выпоротой задницы шлюхи, нежели при виде умиравшего от голода народа, отцами коего они себя считали, начали уголовный процесс против вернувшегося из армии юного офицера, который, посвятив лучшие свои годы служению королю, по возвращении не обрел иных лавров, кроме унижения, уготованного ему злейшими врагами той самой родины, кою он защищал», — писал де Сад, вспоминая историю Розы Келлер.
«Юным» и «невиновным» предстает де Сад на автобиографических страницах своих книг. Таким же «юным» и «невиновным» он ощущал себя на протяжении всей своей жизни, и эти два чувства стали определяющими его облика, основами его характера. «Невиновный» не имеет права быть наказан, на нем нет никакой вины, а значит, он свободен во всех своих поступках. Твердая уверенность в правомочности своих действий, и прежде всего в реализации «страстей», дарованных ему Природою, подводила де Сада к тому, что на языке судей именовалось «рецидивом», то есть повторением совершенных ранее проступков, что в обществе, стремившемся стать более цивилизованным, рассматривалось как осознанная угроза порядку. В те времена юристы любой «рецидив» рассматривали как тяжкое преступление: за повторную кражу нескольких мелких монет можно было угодить на виселицу.
«Невиновность» — это альтернатива «виновности»; чтобы признать человека невиновным, нужно сначала предъявить ему обвинение, а потом доказать его неправомерность. Внутреннее ощущение невиновности в соединении с невозможностью ее доказать порождало у де Сада постоянное недовольство, отражавшееся не только в потоке жалоб в вышестоящие инстанции, но и в отношениях к близким людям, и прежде всего к жене, безропотно терпевшей все его «фантазии».
«Юный» не имеет ни жизненного опыта, ни знаний, чтобы нести ответственность за свои поступки, а тем более за поступки других. «Юный» еще не заслужил твердого общественного положения, а потому в любую минуту может оказаться маргиналом. Де Сад виртуознейше находил причины для оправдания своих действий, он никогда всерьез не помышлял занять место, определенное ему рождением, воспитанием и общественным положением, поставив, таким образом, под угрозу экономическую ситуацию семьи, за которую он, как ее глава, должен был нести ответственность. Но он эту ответственность нести не желал. В одном из писем к Милли Руссе, прозванной де Садом «святой», он сам называл себя ребенком: «Где же я, святая Руссе, и кто я, если не самый настоящий ребенок?» Письмо было написано в Венсенском замке.
Донасьену Альфонсу Франсуа было интересно исследовать «странные склонности, кои внушает нам природа», а налагаемые обществом обязанности требовали подавлять страсти и изгонять «странные склонности», то есть социального владения собственным телом, что ни в коей мере не согласовывалось с «образом мыслей» Донасьена. Его «образ мыслей» требовал реализации страстей, а главной и единственной страстью Донасьена Альфонса Франсуа был театр. Органической частью садического театра без границ являлись и эротические фантазмы маркиза, и литературное творчество. Но во времена де Сада даже успешный литератор не имел определенного статуса, который бы отличал его от нелитераторов. Порывая связи со своим сословием, не желая утверждаться ни как землевладелец, ни как военный, ни как придворный, Донасьен Альфонс Франсуа в глазах общества Старого порядка становился деклассированным элементом, отношение к которому было иное, нежели к знатному аристократу. Фактически оторвавшись от собратьев по сословию, де Сад продолжал сознавать себя человеком из высшего класса и не намеревался примыкать к «черни», обязанностью которой, по словам его героев, являлось служить страстям и потребностям либертенов. Забегая вперед, скажем, что революция возвела профессию литератора в ранг ремесла, а сочинителей приравняла к почетному третьему сословию, то есть к тем, кто сделал революцию. Общественное признание его любимого занятия не могло оставить де Сада равнодушным и наверняка явилось одной из причин его участия в революционных структурах и отказа от эмиграции.
«Юный», «невиновный» и свободный маргинал де Сад мог счастливо существовать только по своим собственным правилам, иначе говоря, на острове, защищенном от житейских бурь и непрошеных вторжений. Его остров имел одностороннюю связь с «большой землей»: с нее к нему поступало все необходимое для организации комфортной жизни, и прежде всего продовольствие и «живой материал». В замкнутом пространстве острова-сцены де Сад мог беспрепятственно ставить спектакль своей жизни. Теперь, когда ему исполнилось тридцать три года, можно было утверждать, что возможность изменения курса корабля по имени де Сад практически равна нулю. А значит, изгнанный с одного острова, он переберется на следующий и там, убежденный в своей неподсудности, продолжит ставить все тот же спектакль и отстаивать свое право на необычность.