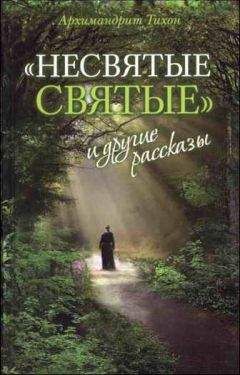– Что это за Командир?
– Это Христос, сынок. Ты прости, что я называю тебя сыном, но такие уж мои годы.
– Что же это за тяжкий грех?
– Я, отец игумен, нарушил пост в одну из пятниц.
– Ты съел что-нибудь скоромное?
– Нет, такого я никогда не делал. Я в пятницу переспал со своей женой. А ведь в этот день был распят Христос. Он – на страсть, а я – на сласть? Я не могу этого забыть. Много лет я молюсь, крича об этом в горах, по которым хожу, но чувство вины не покидает меня. О моём грехе узнали птицы, дикие звери, каждая ветка на деревьях в лесу. Теперь я хочу, чтобы о нём узнала Богородица и изгладила его из моей души.
Я застыл в изумлении и не мог ничего сказать, а потом подумал: «Мы, монахи, говорим о строгости к себе. О какой строгости мы говорим! Этот дедушка – вот самая строгая строгость, какую я видел в своей жизни!»
Духовники всегда испытывают затруднения во время исповеди. Люди не хотят раскрывать свою душу или от стыда, или по действию дьявола, или из-за лукавства. Их грязь, проступки и пороки приходится вынимать из их сердца чуть ли не багром. Приходится задавать наводящие вопросы, по которым исповедующиеся начинают судить о духовнике. А из-за этого у них зачастую возникает превратное понимание его слов, от чего они сильно обижаются не только на молодых духовников, но и на убелённых сединами старцев. Как правило, исповедующиеся начинают с перечисления своих достоинств: «Я не клеветал, никого не убивал, не разрушал чужую семью. Ты лучше сам меня спрашивай, а я буду отвечать…»
Скольких трудов стоит раскрыть подобное сердце! Ключ от него человек забывает дома и приходит с душой, запертой со всех сторон, как осаждённая крепость. Как войти в такое сердце?!
Но, слава Богу, встречаются ещё люди, готовые сами говорить и имеющие признаки истинного покаяния. Их исповедь – настоящее утешение для духовника. Так, один раз к моей радости преклонил колени под епитрахилью один из таких истинно кающихся.
– Отче, не спрашивай меня ни о чём. Я сам всё расскажу: мне хочется самому получить всю награду исповеди; не хочу, чтобы она досталась ещё кому-нибудь, пусть вся будет моей.
Он начал со своего самого тяжкого греха. Обливаясь холодным потом, он старался избавиться от этого огромного похотливого зверя, о котором не знали ни его жена, ни дети, ни сотрудники.
– Внутри меня постоянно живёт какой-то дикий зверь. Сейчас мне очень стыдно, но это чудовище должно из меня выйти.
Вслед за этим грехом стали выходить другие, менее тяжкие, подобные мелкой морской рыбе. Он наклонился лицом к земле и со слезами стал просить о прощении.
– Мне стыдно, стыдно, – повторял он. – Не смотри мне в лицо, иначе я умру от стыда. Как старый корабль, я стремлюсь к пучине Божественной милости, которая одна может меня спасти. Отче, ничто не исцеляет от страстей – ни образование, ни высокое положение в обществе, только великая Божия милость. Раньше я думал, что если я добьюсь высокого положения и займу важный пост, то моему уму будет стыдно думать о гадостях. Но всё стало только хуже. С тех пор я не нахожу покоя. «Помилуй мя, Господи, помилуй мя, падшаго!»
Когда я читал над ним разрешительную молитву, он опять склонил голову до земли, поцеловал мою руку и ушёл, чтобы на следующий день встретиться с Господом, причастившись от Чаши жизни.
Вплоть до 70-х годов нужда и нищета были нередкими в горных районах нашей страны. Люди, приходившие в наш монастырь, были обуты в куски свиной кожи. О такой обуви я только слышал, но никогда ещё не видел, чтобы ею пользовались. Приближалось Рождество, и все старались подготовиться к этому великому празднику: люди шли к нам за оливковым маслом, мукой, мылом, одеждой, уже сменившей одного или двух владельцев. Пришла к нам и одна женщина, обутая в эту старинную обувь, чтобы взять масла и ещё чего-нибудь, чем монастырь мог бы ей помочь. Но прежде всего она пришла для того, чтобы исповедаться в своих давних и тяжких грехах. Несмотря на поясняющую жестикуляцию, ничего не было понятно из того, что говорила эта беззубая старуха. Я сказал ей: «Разрешительная молитва всё это смоет».
Наступило Рождество. На литургии женщина причастилась из рук игумена, и это стало главной темой разговоров во всей округе: в домах, за столом, в кофейнях: «Игумен причастил убийцу!»
Вечером ко мне пришёл встревоженный монастырский повар.
– Отче, как ты мог это сделать?!
– Что именно, дядя Андрей?
– Причастить убийцу. О тебе теперь везде говорят как о духовнике, который не знает священных канонов и церковного устава. Они ведь запрещают убийцам не только причащаться, но даже заходить в церковь.
– Из-за чего столько шума? Чего испугались твои земляки? Неужели этим осквернилось святое Причастие?… А кто, собственно, этот убийца?
– Старуха, которая перед тобой прикинулась доброй, а теперь повсюду болтает: «У меня есть друг – игумен, а до вас мне теперь дела нет».
– Ну и хорошо, пусть ей от этого будет легче. Она что, вечно должна быть в презрении?
Пришла Пасха. Старуха-убийца, совершенно поникшая, тихонько кралась вдоль стены, как будто она совершила своё убийство сегодня.
– Иди сюда, не бойся. Садись рядом, поговорим.
Она осмелела, и на её мрачном лице показалась тень улыбки.
– Ты в порядке? Как провела зиму?
– Было трудно, батюшка. Все отвернулись от меня из-за того убийства, которое я и не знаю, как случилось.
– Расскажи-ка мне о нём, потому что в прошлый раз я ничего не понял.
– В нижней части нашего села, батюшка, у меня был сад. Туда у нас была проведена вода. Когда я спустилась сверху, чтобы направить струю для полива, вода внезапно перестала течь. Мне опять пришлось карабкаться наверх. Поднявшись, я увидела, что какой-то мужчина у корней дуба отводил мою воду в свой собственный сад. Долго я говорила с ним по-хорошему. Но в наших краях тебя никто не станет считать за человека, если ты слабый. Тогда гнев затмил мой рассудок. Я спряталась за дубом и, выбрав момент, отрубила топором его голову, которая скатилась в канаву. Меня посадили в тюрьму. Но в 1940-м началась война, и меня с другими узниками освободили. С тех пор я живу в презрении от всех. Никто не открывает мне дверей, все отворачиваются от меня, хотя я не ношу с собой топора и никого не оскорбляю. Я часто слышу, как звонит церковный колокол. Тогда я плачу, но в храм не иду, боясь всеобщего негодования. Мне говорят, что если я войду внутрь, то Бог разрушит мир. Правда ли это? Ложь? Я не знаю. Мне страшно. Я не знаю, куда приткнуться. От людей я слыхала, что здешний игумен всех принимает, всем помогает и отпускает грехи. Потому-то я тогда и пришла, но вышло только хуже: стали говорить, будто я обманула тебя и хитростью получила разрешение на причастие.