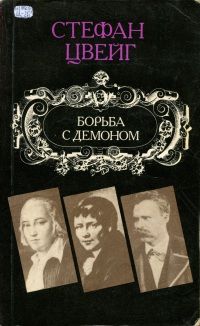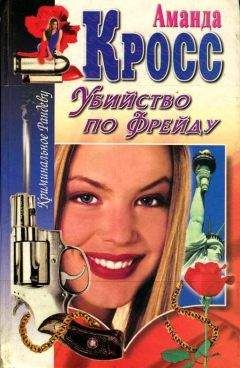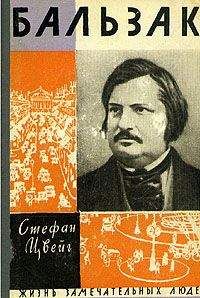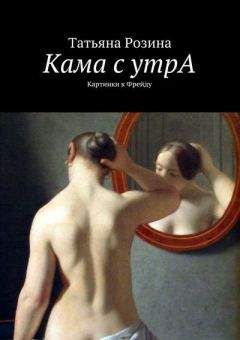Эту святую гордыню он противопоставляет судьбе, и властно, мощно, в страстном порыве к самосохранению и самовозвышению, он ставит преграду горячему неистовству самоуничтожения. Так жизнь Клейста становится гигантоманией, гигантской борьбой слишком возвышенной натуры; трагедия его не в избытке одного и недостатке другого, как у большинства людей, а в избытке и того и другого; избыток ума наряду с избытком крови, избыток нравственности наряду с избытком страсти, избыток дисциплины наряду с избытком необузданности. Он был из числа перенасыщенных людей, и «неизлечимая болезнь», которой было одержимо это «хорошо задуманное тело» (как говорит Гёте), в сущности, заключается в чрезмерной силе. Природа затратила на него гораздо больше энергии, чем нужно человеку на протяжении всей жизни: так неистова была эта полнота, что неумеренные дозы стали ядом и роком; тонкая кора земной плоти не может справиться с таким избытком сил и токов. Клейст должен был поэтому взорваться, как перегретый котел: не безмерность, а чрезмерность была его демоном.
Во мне все спутано, как льняные волокна
в прялке.
Из юношеского письма.
Клейст рано ощутил в себе этот хаос чувства. Уже мальчиком, а еще сильнее двадцатилетним гвардейским офицером он полусознательно замечает, как мощно растет его внутреннее возмущение против тесного мира. Но он предполагает, что это смятение, эта отчужденность — брожение молодости, результат неудачной жизненной установки и главным образом недостаток подготовки, воспитания, системы. И действительно, Клейст не был подготовлен к жизни: из опустевшего родительского дома он попадает под начало к эмигранту–пастору, потом в кадетский корпус, где он должен изучать военное искусство, в то время как тайная склонность влечет его к музыке — первый прорыв чувств в беспредельность. Но лишь тайком он может играть на флейте (видимо, он владел ею мастерски): целый день он занят суровой прусской военной службой, учениями на невеселых песчаных плацах своей родины. Кампания 1793 года, бросившая его наконец в настоящую войну, была самой жалкой, самой неудачной, самой скучной, самой бесславной кампанией в немецкой истории. Никогда он не упоминал о ней как о военном подвиге; только в одном стихотворении, посвященном миру, он выражает стремление уйти от этого безумия.
Военный мундир стесняет его жаждущую свободы грудь. Он чувствует, как бродят в нем силы, и догадывается, что они не проявятся действенно в мире, пока он не сумеет их укротить. Никто его не воспитывал, никто его не поучал, и вот он сам хочет быть своим воспитателем, «построить себе жизненный план», или, как он говорит, «научиться правильно жить»; и, так как он пруссак, первая его мысль — о порядке. Он хочет установить в себе порядок, «жить правильно» — согласно определенным нормам, принципам, идеям — и полагает, что внутренний хаос (он его предугадывает) можно усмирить лишь правильной, построенной по определенной схеме жизнью, чтобы, как он формулирует, «вступить в нормальную связь с миром». Его основная мысль заключается в следующем: каждый человек должен составить себе жизненный план. И это заблуждение не оставляет его почти до последних дней: он считает, что нужно наметить себе цель, потом тщательно избрать средства, полагая, что можно, как в стратегии или математике, вычислить и начертить свою задачу. «Свободный мыслящий человек не остается покорно на том месте, куда его толкает случай… он чувствует, что можно возвыситься над своей судьбой, что можно даже, в точном смысле слова, руководить судьбой. Он разумом определяет то, что составило бы его высшее счастье, он намечает жизненный план… Пока человек не в состоянии определить свой жизненный план, он остается несовершеннолетним; ребенок — он под опекой родителей, взрослый — он под опекой судьбы» — так философствует молодой человек в двадцать один год, собираясь перехитрить рок. Он еще не знает, что его судьба — внутри его существа и в то же время за гранью его сил.
Но напряжением воли он швыряет себя в жизнь. Он сбрасывает мундир. «Военное сословие, — пишет он, — стало мне так ненавистно, что постепенно мне становилось в тягость содействовать его целям». Но как, ускользнув от одной муштровки, найти себе другую? Я уже говорил: Клейст не был бы пруссаком, если бы его мысль не обратилась прежде всего к порядку. И он не был бы немцем, если бы не верил, что внутреннего порядка можно достигнуть путем образования. Образование для него, как и для всякого немца, ключ к тайнам жизни; учиться, прочитать как можно больше книг, сидеть на лекциях, записывать их, слушать профессоров — так рисуется юноше путь в мир. При помощи теорий и правил, естествознания и философии, истории, литературы и математики Клейст хочет познать мировой дух, укротить демона. И, вечный преувеличитель, он неистово погружается в науку. Все, что он делает, все, к чему прикасается, он накаляет своей демонической волей; он как бы опьянен рассудительностью и превращает педантизм в оргию. Как и его немецкому предку, доктору Фаусту, ему кажется слишком медленным последовательное, постепенное приобретение знаний: он хочет всего достичь одним прыжком и в науке познать наконец подлинную жизнь, «истинную» форму жизни. Обольщенный писаниями эпохи Просвещения, он со всем фанатизмом своей стремительной воли верит, что «добродетель» в понимании греков поддается изучению, верит в единую формулу жизни, которую можно вывести с помощью науки и образования, чтобы каждый раз пользоваться ею как схемой, как таблицей логарифмов. Поэтому он, словно в отчаянии, окунается то в логику, то в чистую математику, то в экспериментальную физику, потом бросается к латинскому и греческому языкам, и все это «с самым кропотливым прилежанием», однако без цели и плана, как и следовало ожидать от его безудержной и фанатичной натуры. Ясно чувствуется, что он, стиснув зубы, старается довести до конца свое дело: «Я поставил себе цель, требующую непрерывного напряжения всех моих сил и каждой минуты времени, если я хочу ее достичь», — но эта «цель» все время остается далекой. Он учится впустую, и чем больше он наспех схватывает разрозненных знаний, тем менее он познает внутреннюю цель. «Все науки для меня одинаково важны, — неужели я должен переходить от одной пауки к другой и вечно плавать на поверхности, не углубляясь ни в одну из них?» Напрасно он — лишь бы убедить себя в пользе этих занятий — самым педантичным образом проповедует своей невесте педантичную механику нравственного поведения, месяцами, как зловредный школьный учитель, мучает бедную девушку нелепыми, надуманными вопросами и ответами, которые он старательно записывает ради ее «образования». Никогда Клейст не был антипатичнее, бесчеловечнее, педантичнее, никогда он не был в большей мере пруссаком, чем в этот несчастный период, когда он, с книгами, лекциями и наставлениями в руках, искал в себе человека, никогда он не был более чужд себе и своему пламенному существу, чем в ту пору, когда он стремился выработать из себя полезного гражданина и человека.