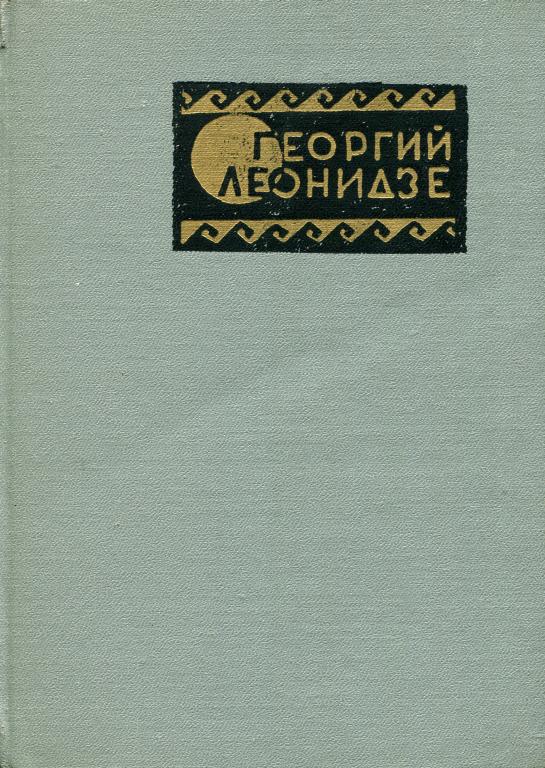ранил, терзал, разрывал ее любящее сердце.
Долго дожидалась сына тетушка Маико, вся — огромное, беспредельное ожидание. И наконец, источенная горем, заболела и ушла за своим Вахтангом, по затерянным его следам…
Нет больше на этом свете тетушки Маико, но и сегодня так же, как при ней, цветут деревья в ее дворе, так же перевешиваются через изгородь гроздья белых цветов, — и мне чудится, что улыбка тетушки Маико живет в этих цветах, взывает ко мне из белоснежных, душистых лепестков, твердит о всесильной любви к жизни…
Проходя по улице близ дома тетушки Маико, я неизменно убыстряю шаг — точно надеясь, что она сама выйдет вдруг из калитки, поспешая мне навстречу; и когда в покинутом ею дворе лицо мне обвевает ветерок, — чудится, что это тетушка Маико привечает меня обычной своей лаской…
Другие живут теперь в доме тетушки Маико, другие ходят по ее двору — но грядки ее огорода по-прежнему зеленеют, дышат, радуются жизни. Жизнь не останавливалась ни на мгновение, она не может быть побеждена — жизнь идет, продолжается со всей своей кутерьмой.
Все так же сияют ясные и нежные, разубранные цветами и лучами, улыбчивые утра; по-прежнему отсвечивает темным изумрудом листва. Все так же сверкает зеркальная озерная гладь, искрятся луга, обрызганные росой, — точно младенческие губы, влажные от материнского молока…
Жизнь бессмертна, непобедима! Недаром говаривала тетушка Маико:
— Нет, не будет никогда жизнь у смерти в рабстве! Никогда!
Цветики матушке!
Пылающий полуденный зной сковал деревню. От однообразного, докучного стрекота сверчков точно еще глуше безмолвие. Спят проселки и проулки.
Бывший семинарист, «анархист» Иорам шагает по деревенской улице.
На нем синяя сатиновая рубаха, подпоясанная шнурком с кистями.
Зимой он ходит в пальто с поднятым воротником, на голове — неизменная черная шляпа.
Разговаривая, снимает шляпу и отбрасывает со лба густую черную гриву.
Часто доводилось мне видеть:
Навстречу Иораму, с противоположной стороны, лениво бредет немолодой, но бодрый священник, отец Зирах, в сопровождении дьякона, по прозвищу «Свечехвост».
Батюшка имеет привычку поглядывать исподлобья, за что именуется в деревне «Косым».
«Анархист» Иорам преграждает путь священнику, и густой бас его отдается в дальнем конце деревни:
— Эй, преподобный, скажи, откуда мир взялся?
— Господь бог его создал! — запальчиво отвечает священник. — Кто, как не он, одел небосвод облаками и окружил сушу морем? Кто мог измерить взглядом простор земной и глубь океана, если не всесильный господь?
— Прекрасно! Ну, а теперь скажи мне, служитель господа, кто создал нищету, грязь, лохмотья, чахотку? Небось все тот же твой всесильный господь бог, не правда ли?
— Не греши, не хули господа, адово исчадие! Довольно тебе играть с огнем, сеятель пожара! — вспыхивает священник.
— Прощай, отче, и да увижу я вскорости твою патлатую голову под топором гильотины! — сняв шляпу, с язвительной улыбкой раскланивается Иорам.
Раздосадованный священник также не оставляет его без злобного напутствия:
— Дай тебе бог дожить до вашего обетованного царства, с молочными реками в кисельных берегах!
Анархист откликается издали, обернувшись:
— А тебе — поскорее дождаться гильотины! Будь осторожен! Назревают великие перемены, близится победа народа! Тиранам уготована могила!
— Хоть перед властями страх имей, антихрист, ежели совести у тебя нет! — кричит вслед ему поп.
— Готов первым принять бой за свободу человечества! Собственноручно сброшу со скалы в пропасть самодержавие! — повернув вдруг назад, догоняет его анархист.
— Нашелся вояка! Не слишком ли на себя надеешься, Иуда Искариот?
— Сильный человек знает меру своего мужества, ты, порождение тьмы! Верой своей я способен горы сокрушить! — И, вновь круто повернувшись, Иорам уходит прочь.
— Скудоумный маньяк! — кричит вслед ему священник, и слова его тем смелей, чем дальше от него анархист.
Бывало, соберет Иорам ребятишек в переулке, где поглуше, и заставляет их повторять под свою диктовку:
«Долой царя, господ, попов, полицейских!»
Священник ни разу не слыхал этого, но всем своим существом чует в Иораме опасного врага.
— Погоди, — брюзжит он про себя, — и тебя понемножку засосет трясина, скует одурь деревенской жизни! Потерпи немного — ты пока еще тут новичок!
Дьякону, вечно обделенному и обиженному под тяжелой рукой жадного попа, унижение начальства доставляет неподдельное наслаждение. Со льстивой улыбкой кадит он священнику:
— Да, отче, да, благодетель, нельзя нынче ждать ни от кого учтивости и уважения! Что за дерзкие речи он себе позволил!
— Ну и что? Меня от этого не убудет! — бормочет, пылая от стыда, осмеянный при подчиненном священник.
— Что вы! — смакуя удовольствие, подливает патоки дьякон. — Что вы, ваша слава всюду гремит, до самого неба достигла. Я и то, глядя на вас, неизменно думаю: «Не достоин! Господи, не достоин!» А этого неверного разве мыслимо с вами равнять? — нескончаемо курит фимиам попу дьякон-рваная ряса…
— Опасный он человек, дьякон! Бомбы изготовляет втайне, взорвать весь свет собирается! Я человек многосемейный, сам знаешь…
Анархист и в самом деле был человек опасный. Очень уж горяч — бешеного нрава.
Еще семинаристом он закатил пощечину отцу-ректору и был за то исключен с волчьим билетом из пятого класса.
— Ух, одолела меня жажда свободы, к горлу подступает! — объявлял вдруг Иорам, и глаза его метали молнии.
Однажды, помнится, сидел я на балконе с книжкой. Был яркий знойный полдень. Вдруг взбегает ко мне на балкон Иорам, возбужденный, с расширенными зрачками, и кричит:
— Слышишь? Слышишь или нет?
— Что такое?
— Из-под земли гул доносится! Ну-ка, спустись, приложи ухо к земле! — И он насильно стащил меня вниз по лестнице.
— Приложи ухо, прислушайся — как гудит! Ты понимаешь, что это значит?
— Ну?
— Это она! Идет… приближается…
— Кто идет?
— Надвигается… С гулом, с громом, во всей своей мощи и силе… Революция!
Я смотрел на него в изумлении.
— Неужели не слышишь? А я слышу: посвист бури, шум грозы, грохот горного потока! И в воздухе порохом пахнет.
Полуденный зной палит деревню; немолчный стрекот сверчков разносится в неподвижном, безлюдном воздухе.
Все старались избегать беспокойного, яростного анархиста и боялись его «бомб». Шел слух, что он тайно изготовляет их по ночам в саманнике за гумном и в любую минуту, если только захочет, может взорвать всю деревню. Женщины, когда им случалось повстречаться с ним на дороге, проходя мимо, тайком крестились.
— Боже всесильный и милостивый, упаси нас от беды!
В самом деле, странен был Иорам — впору испугаться! Не раз я видел его стоящим на берегу Иори в дни весеннего половодья — и именно в эти минуты постиг его неукротимую, мятежную душу.
…Катит с грозным львиным рыком свои тяжелые волны вздувшаяся по весне, бешеная Иори, кружит вырванные с корнем деревья, огромные лесины и колоды, волочит мельничные