Все десять лет, которые мы проработали вместе, в часы досуга мы играли в карточную игру – сиамского дурака. И все десять лет я бил Фурмана нещадно, поскольку для этой игры мною создана целая теория, глубокая и эшелонированная. Фурман об этом знал; самолюбие не позволяло ему опуститься до прямых расспросов – как да что; но иногда он позволял себе спросить, почему я сыграл так, а не иначе, и тогда я ему открывал соответствующий принцип. Фурман немедленно брал его на вооружение, и в следующий раз – если не понимал моей игры – спрашивал снова. Я не темнил и не хитрил – выкладывал все как есть. Потому что был уверен: это не повлияет на результат игры. Под конец он жаловался: «Да что ж это такое? Ведь вроде бы я уже знаю все, что знаешь ты, а ты все равно у меня выигрываешь…»
А как же иначе! Ведь он пользовался не своими принципами. А между чужим принципом и истиной всегда есть люфт. Значит, чем больше прибавляешь газу – тем больше риска, что машина потеряет управление или развалится.
Я давно обратил внимание: у публики почему-то сложилось убеждение, что шахматный тренер обязательно умнее спортсмена, ответственней, лучше разбирается в теории шахмат, больше знаком с практикой. Вот только играет он хуже подопечного, хотя, по логике вещей, обладая столькими достоинствами, он и в игре должен превосходить. Публика считает тренера чуть ли не главной пружиной в этом рабочем дуэте. Как говорят в народе: куда шея захочет – туда голова и повернется.
Все это далеко от истины.
Во-первых, тренер – фигура желательная, но далеко не обязательная. Конечно, хорошему тренеру нет цены, но на худой конец шахматист может готовиться и самостоятельно. Как бы ни важна была подготовка (которая по силам и самому спортсмену), восемьдесят процентов успеха решаются в непосредственной борьбе с соперником (разумеется, если не считать модный в наше время вариант – домашний анализ, протянутый вплоть до победного финала). И первые великие шахматисты (в том числе и чемпионы мира), как известно, вполне обходились без тренеров; во всяком случае, без постоянных официальных тренеров.
Во вторых, ответственность за исход шахматного поединка лежит на игроке. Он несет этот груз сам, весь, до последнего грамма. Если он проигрывает, конечно, он может кинуть камень в тренера, мол, вот – насоветовал, я доверился – и скатил. По-моему, это и некорректно, и несерьезно. Любой человек может недоглядеть, ошибиться, увлечься. Но ты-то сам куда глядел? Ведь ты же не марионетка. Это тебе вся честь в случае победы, и там уж только от широты твоей души будет зависеть, захочешь ли ты поделиться с тренером и сколь щедрыми будут твои сердце и рука. И только тебе вся горькая слава побежденного. Кто сегодня помнит тренеров, скажем, Ботвинника или Петросяна? Но любой шахматный болельщик знает, что Ботвинник уступил первенство Петросяну, а Петросян – Спасскому.
Шахматы – это драма ответственности. Это испытание ответственностью. Вот почему многие талантливые шахматисты, знающие в шахматах все, что было известно в их время, не смогли стать выдающимися игроками; необходимость принимать ответственное решение за доской их раздавливала. Они – как буриданов осел, который, так и не решившись сделать выбор между двумя копнами сена, умер с голоду. Я думаю, что шахматный тренер – это нереализовавшийся игрок, который через посредство своего подопечного получает возможность участвовать в большой, лично ему недоступной игре. Он перекладывает ответственность на игрока. Вот почему Фурман угадывал мои ходы: он не только знал меня и не только был хорошим шахматистом, но – и это самое важное – он был свободен в выборе решения, которое я принимал, придавленный грузом величайшей ответственности (а каждый ход – это решение).
Тренерам свойственно преувеличивать свое значение (во всяком случае, перед публикой), они то и дело норовят выбежать на авансцену, тянут на себя одеяло сколько есть сил. Игрок должен относиться к этому с пониманием. Ведь не хлебом единым жив человек. Ведь уборочная страда – это считанные дни, аплодисменты – те живут и вовсе мгновения, а ведь весь остальной год тренер трудится уж никак не меньше игрока, а зачастую и значительно больше. И он вправе претендовать на признание публикой этого труда, пусть и мимолетное. Его можно понять.
К Фурману все это не имеет прямого отношения. Конечно, и он был человек, значит, в какой-то степени и ему все это было свойственно; но в степени очень небольшой, а еще лучше сказать – это в нем было почти незаметно и лишь иногда возникало слабыми симптомами, как у здорового ребенка легкий насморк или простуда во время всеобщей пандемии. У него были другие ценности – и это создавало иммунитет.
Наши отношения были специфические. Он относился ко мне, как к сыну, я к нему – как ко второму отцу. То есть, если говорить о душе, мы не просто симпатизировали – мы любили друг друга.
Но ведь нас объединяло дело.
В дуэте не много вариантов: либо оба голоса равноправны, либо один – ведущий, а второй – подголосок.
Мы распределение ролей не обсуждали ни разу. Потому что Фурман был настолько старше меня, настолько больше знал, настолько превосходил опытом и мудростью, что я уступил ему право решающего голоса как нечто само собою разумеющееся. Но жизнь быстро переставила нас местами. Потому что Фурман органически не был приспособлен к первой роли. Он не был готов к такой ответственности, и ему недоставало характера. Принятие решения, которое у него никогда не было окончательным, сопровождалось почти физическими муками. Необычайно мужественный в обыденной жизни, он утрачивал это изумительное качество в шахматных обстоятельствах.
О рокировке в нашем дуэте мы не говорили ни разу. Зачем? – и так все ясно. Думаю, именно потому, что обошлось без такого неприятного, даже унизительного для него разговора, он с такой готовностью и признательностью на это пошел.
Он и сам понимал, что ему не дано быть лидером. Лидер целеустремлен; ему не требуется усилий, чтобы отметать все второстепенное; он берет энергию от цели, и потому постоянно на нее направлен, как стрелка компаса на север; он выбирает самый экономичный маршрут и самый экономичный режим, потому что только так он быстрее всего достигнет цели.
А Фурман разбрасывался. (Без этого не работала его житейская философия, без этого он не мог бы получать удовольствие от жизни). Чего стоит одна эпопея с бриджем!
Увлечение бриджем совпало у Фурмана с началом нашего постоянного сотрудничества. Впрочем, увлечение – это слабо сказано и совершенно не передает того, что происходило. Это была тяжелейшая болезнь! Вначале я не придал ей значения: все мы – игроки, все – азартны; перегорит – и пройдет. Но не тут-то было! Увлечение Фурмана быстро переросло в страсть, а страсти, как известно, управлению не поддаются; мы – их рабы.
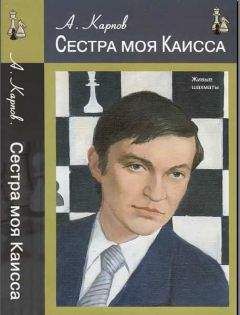
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)



