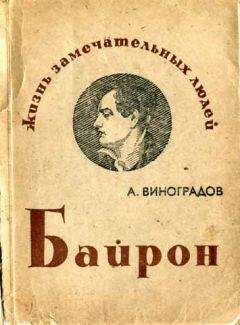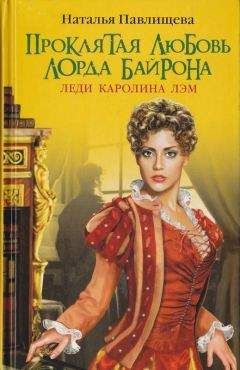Вот письмо, которое говорит о непосредственной связи между «Беппо» и величайшим произведением Байрона «Дон Жуаном»:
«…Я закончил первую (довольно длинную, около 180 октав) песню поэмы в стиле и манере „Беппо“, окрыленный успехом последнего. Она называется „Дон Жуан“ и в ней обо всех предметах будет говориться спокойно-шутливым тоном. Но я боюсь, что бы она не была слишком вольной, по крайней мере в наши скромные дни. Во всяком случае я сделаю эксперимент анонимно; если это не пройдет, его можно будет прекратить. Поэма посвящается Соути: в хороших, простых и диких стихах говорится о политических убеждениях лауреата и о том, как он до них дошел»…
Венецианской зимою, дождливой и туманной, Байрон перебрался на Большой Канал и занял пустовавший дом, принадлежавший венецианским богачам Мочениго. Мрачный дом оживился и наполнился совершенно необычным населением. В нижнем этаже гондольер Тито созывал своих товарищей. К нему собирались его друзья и родные. Профессиональные певцы и уличные музыканты заходили запросто в этот недавно еще недоступный дворец. Пестрая толпа совсем незнатных, неизвестных и незнакомых мужчин и женщин встретила Шелли, когда он приехал в этот «вертеп Мочениго» в августе 1818 года.
И как бы следуя скептическому настроению, сменившему романтическое вдохновение его ранних фантазий, Байрон становится все больше и больше peaлистическим сатириком в поэме, которую он предполагал сделать своим основным эпическим произведением. Угрожая друзьям и врагам быстрым ростом «Дон Жуана», поэт обещал довести поэму до пятидесяти песен.
На жалобы Шелли по поводу избытка «дурного общества», окружающего Байрона, поэт ответил эпиграфом к «Дон Жуану»: «Неужели ты думаешь, что оттого, что ты добродетелен, в мире не-должны существовать пироги и пиво». Этим эпиграфом из «Двенадцатой ночи» Шекспира начинается «Дон Жуан». Байрон провозгласил законность всех сторон жизни в качестве об'екта для писателя.
Можно долго рассказывать о том, как вслед за Марианой Сегати появилась Маргарита Коньи, вслед за Маргаритой появилась Анджиолина и целый ряд других женщин или сомнительной нравственности, или несомненной порочности, сделавшихся завсегдатаями дворца Мочениго. Роль биографа сводится к тому, чтобы связать творческие истоки поэта Байрона с его собственной жизнью и с жизнью эпохи. Перечень произведений венецианского периода указывает на то, что первенствующее значение в жизни Байрона играли не эти легкомысленные связи, а те живые соприкосновения со всеми слоями итальянского обществам на которых выросли самые блестящие произведения английского гения, и не только произведения, но и горячее участие Байрона в итальянском освободительном движении. Добросовестность биографа требует, чтобы эти стороны были отмечены не в порядке оправдания, ибо Байрон в нем не нуждается, а в порядке об'яснения той исторической ситуации, которая позволила гениальному бунтарю-одиночке выйти за пределы своего класса, несмотря на все угрозы, какие должны были явиться результатом неестественной замены положения лорда поло жением поднадзорного поэта-свободолюбца.
Мы берем живого Байрона со всеми его человеческими свойствами, с его печалью и смехом и с его «мировой скорбью», которая имела вполне естественные, исторически обусловленные причины, но не растворяем Байрона в потоке социальных сил, а показываем в нем живое и критическое отношение к действительности, несомненно осложненное в какой-то степени теми элементами сословных предрассудков, к которым Байрон бессознательно прибегал в период самозащиты. При всей противоречивости творческого образа Байрона нельзя забывать главного свойства его натуры, которое служило основой всех его творческих устремлений, а именно: полное и яркое ощущение всех революционных замыслов эпохи, твердое и ясное представление о социальной справедливости, вытекавшее из его отношения к человеку, независимо от его сословного происхождения, и наконец горячая защита этой справедливости всеми доступными ему средствами.
Попытки развенчать Байрона начались, как мы уже знаем, с первого момента его литературной славы, но теперь, в годы пребывания Байрона в Венеции, они приняли поистине чудовищные размеры. Поэт-лауреат Соути к этому времени дошел уже до того, что начал обличать Байрона как человека, «наложившего клеймо позора на литературу великой Англии, ибо он совершает тягчайшие преступления против общества, выпуская творения, в которых яд насмешек замешан на огне ужасов, грязь разврата сочетается с безбожием и крайняя степень нравственного падения с вольнодумством мятежника».
В сентябре 1819 года Байрон пишет своему издателю Меррею: «Не говорите мне об Англии. Я не хочу о ней слышать. Там были моя семья, ребенок, дом, земля, имя. Все изменилось и исчезло. Из десяти последних и лучших лет моей жизни шесть прошли за пределами этой страны. Я не чувствую любви к своей стране. Но, собственно говоря, вражда с обеих сторон должна бы иметь знак равенства, иначе у меня ничего не выйдет. Однако революция не делается на розовой водице. Боюсь, что мой вкус к революции не притупится моими другими страстями». Итак, наступал период решительного перелома в жизни Байрона.
2 января 1818 года Байрон подписывает посвящение Гобгоузу в четвертой песне «Чайльд Гарольда». Это предисловие так же интересно, как сама поэма. «Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине, посвящая вам завершенное или во всяком случае оконченное поэтическое произведение, самое длинное и самое продуманное, и самое понятное из всего, что я писал, я хочу оказать честь себе, вспоминая о вашей дружбе.» И далее: «…даже число, помеченное на этом письме, — годовщина самого несчастного дня в моем прошлом» (2 января 1815 года — день бракосочетания лорда Байрона и мисс Изабеллы Мильбенк).
Говоря о содержании последней песни, Байрон сообщает: «Я устал проводить границу между героем и автором, ее все равно никто не признает». Далее Байрон говорит о характере итальянской национальности, стремясь об'яснить свое пристрастие к новой родине. Он произносит ряд имен, которые кажутся ему великими только потому, что они связаны с национально-освободительным движением Италии. Вот почему среди этого перечня мы встречаем Уго Фосколо. А дальше Байрон уже приводит имена безвестных римских рабочих, которые поют песню о своем родном городе, и делает вывод об удивительной даровитости римского простонародия, о его восприимчивости, о кипучести его гения и о той единственной жажде, которая достойна одаренного человека всех сословий, которая называется «жаждой бессмертия» — бессмертия независимости.