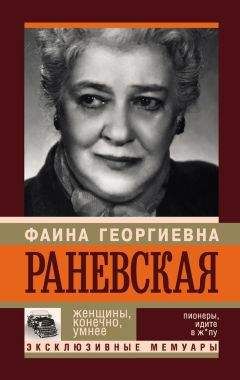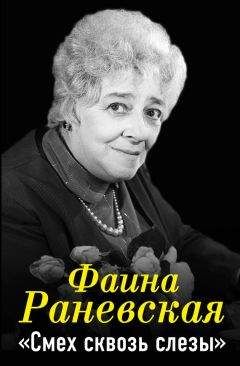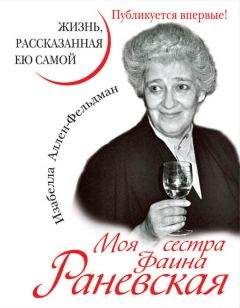Ознакомительная версия.
— Ой, что вы, голубчик! Я не могу, я кричу во сне! — воскликнула бедная Раневская.
Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, Бог знает!
В семьдесят лет Раневская вдруг объявила, что вступает в партию.
— Зачем? — поразились друзья.
— Надо! — твердо сказала Раневская. — Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Верка Марецкая говорит обо мне на партсобраниях.
Внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее:
— Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру.
— Прекрасно, мой мальчик! Тридцать рублей в месяц, и пусть приходит по вторникам и пятницам.
К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична.
Как-то в ресторане ей подали цыпленка-табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку:
— Не буду есть. У него такой вид, как будто его сейчас будут любить.
Однажды домработница сварила курицу вместе с требухой. Есть было нельзя, курицу надо было выбросить. Раневская расстроилась:
— Но ведь для чего-то она родилась!
Окна квартиры Раневской в высотке на Котельнической набережной выходили в каменный внутренний двор. А там — выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны.
Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих-грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете под ее окнами, а вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей из «Иллюзиона».
— Я живу над хлебом и зрелищем, — жаловалась Раневская.
Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередачи «Кинопанорама», хотела заехать.
— К-Ксаночка, в-вам не трудно купить хлеба в нашей булочной? — попросила Фаина Георгиевна. — К-Ксаночка, хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали, — попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла.
— Все готово — обожгла хлеб, — вскоре сообщила Маринина.
— Вы д-долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они д-долго на него ссали! — удрученно говорила Раневская.
Раневская обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием.
— Позовите директора, — сказала она, расплатившись.
А когда тот пришел, предложила ему обняться.
— Что такое? — смутился тот.
— Обнимите меня, — повторила Фаина Георгиевна.
— Но зачем?
— На прощание. Больше вы меня здесь не увидите.
В Доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом Раневская чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем Доме композиторов, с друзьями, а кинематографическую столовую почему-то называла буфэт, через «э». Она говорила: «Я хожу в этот буфэт, как в молодости ходила на аборт».
Во время войны не хватало многих продуктов, в том числе и куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли в Россию американцы по ленд-лизу. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, натуральные яйца, наоборот же, очень вредны.
Война закончилась, появились продукты, и яйца стали появляться на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала:
— Поздравляю, дорогие мои! Яйца реабилитировали!
Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до десяти. От волнения она начинает считать невпопад:
— Один, два, пять, семь.
— Будьте повнимательнее, пожалуйста, — просит врач.
— Поймите, как мне трудно, — начинает оправдываться актриса. — Моего суфлера ведь нет рядом.
Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот.
«Прихожу в поликлинику и жалуюсь:
— Доктор, у меня последнее время что-то вкуса нет.
Тот обращается к медсестре:
— Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку.
Я попробовала:
— Это же говно.
— Все в порядке, — говорит врач, — правильно. Вкус появился.
Проходит несколько дней, я опять появляюсь в кабинете этого врача:
— Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже.
Доктор обращается к медсестре:
— Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер семнадцать.
— Так там же говно, — ору я.
— Все в порядке. Вот и память вернулась».
Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице.
— Что случилось, Фаина Георгиевна?
— Да вот, спала, наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит:
— Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег, — и показывает шляпу с деньгами.
Я тянусь, а он зовет:
— Подойди поближе.
Я пошла к нему и упала с кровати, сломала руку.
Оправившись от инфаркта, Раневская заключила:
— Если больной очень хочет жить, врачи бессильны!
Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой:
— Надо считать до трех. Максимум — до полчетвертого.
Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет — в Театре Советской Армии, столько же — у Охлопкова, восемь — у Равенских в Театре им. Пушкина. В начале шестидесятых во время репетиции в этом театре ей сделали замечание: «Фаина
Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту». Напросились. «А вы разве не знаете, что у меня полон рот говна?!» И вскоре ушла.
Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно.
В. И. (Качалов. — Ред.) спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского, — вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает: «Вы обомхатили Маяковского».
«Как это — обомхатил? Объясни».
Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского. А чтение Качалова было будничным.
Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило. Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью.
Вижу себя со стороны, и мне жаль себя. Читаю Станиславского. Сектант. Чудо-человек. Какое счастье то, что я видела его на сцене, он перед глазами у меня всегда. Он — бог мой.
Я счастлива, что жила в «эпоху Станиславского», ушедшую вместе с ним. Сейчас театр — пародия на театр. Самое главное для меня ансамбль, а его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая, а бросить не в силах — проклятущий театр.
Ознакомительная версия.