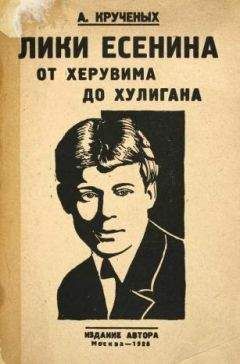Товарищеский суд заседал до трех часов ночи. Оглашение приговора перенесли на 13 декабря. Было принято решение о вынесении четырем поэтам «общественного порицания», при этом указывалось, что «тов. Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных групп. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу».
Галина Бениславская внимательно следила за ходом судебного заседания. На следующий день после суда она получила от Сергея Покровского письмо, описавшего с пристрастием судебный процесс, при этом не скрывая своего недружелюбного отношения к поэтам, в том числе и к Есенину:
«А суд вчерашний — такая нелепость, глупая комедия — смешны и судьи, и подсудимые. Смешон в своей глупой царственности Демьян, смешон в роли мелкого адвоката Сосновский. Смешон Есенин в роли развязного «конферансье» с захудалой эстрады, Орешин с деланным надрывом и Клычков с ученическим пониманием — смешны и жалки. Жалки тем, что их заставили хоть немного вывернуть их души. Лишь Ганин меня тронул своей деревенской простотой, тихий какой-то. Из всех остальных поэтов он ценней как личность, как человек. А я все-таки не думал, что ты забудешь меня в дрязгах суда… Когда же спадет с тебя есенинская гниль?».
После суда организованная травля поэтов продолжалась. В опубликованных по заказам некоторых редакций газет статьях и заметках высказывалось недовольство мягким решением товарищеского суда, поэтам продолжали предъявлять обвинения в антисемитизме, мистицизме и идеализме. С. Есенин готовил для опровержения статью «Россияне». В ней он писал о Л. С. Сосновском: «Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет все об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению».
В своей последней книжке А. Ганин попытался также ответить на эти нападки. «Многие при встрече называют меня «Мистик», — писал он. — Это неверно. Это желание от серьезных вещей отделаться недомыслием. Я родился в стране, где пашут еще косулями и боронят суковатками, но где задолго до Эйнштейна вся теория относительности высказана в коротком «Авось». Это не шутка. Потому, если люди все еще не умеют уважать одиноких и от каждого требуют стадной клички, я был бы более прав, если бы рекомендовал себя: «А. Ганин — романтик начала ХХ века».
Галина Бениславская в эти тревожные для нее дни жаловалась подругам на ухудшение своего здоровья. Возможно, что это были последствия душевных переживаний и волнений за любимого, так как она хорошо знала не только положительные качества Есенина, но и его недостатки. Сергей Покровский в дни судебного разбирательства дела 4 поэтов пытается всячески поддержать ее, хотя Аня Назарова и Яна Козловская уговаривали его забыть Галину. 11 декабря 1923 г. С. Покровский писал Г. Бениславской: «Аня совсем неприличная, ругается как торговка пирожками и ведет себя совсем не как артистка, хотя бы и играющая прачек. Говорит, что я сволочь, что у меня гнусная морда, что ей хочется запустить в меня кружкой, что ты — жена Есенина…». В одном из писем Покровский поведал Галине приснившийся ему страшный сон: «Что ты больна, что ты застрелилась, и жутко, жутко становится».
В эти дни неожиданно состоялась встреча Галины с Надеждой Вольпин, которая привела подвыпившего Есенина в коммунальную квартиру. Да, привела к сопернице, так как понимала, что у себя удержать Сергея не сможет, а с Бениславской, возможно, ему будет лучше.
Вольпин встретилась с Есениным в «Стойле Пегаса». Он был уже навеселе, вокруг него крутилась поклонница преклонного возраста, тоже подвыпившая, которую вскоре забрали ее друзья. Надя попыталась увести Есенина, но тот вдруг вспомнил, что должен прихватить из кафе ужин для заболевшей Гали, которая весь день ничего не ела…
«Новая задержка, — пишет Н. Вольпин. — Проходит чуть ли не полчаса, пока нам выносят пакет со снедью. Мы выходим вдвоем из опустелого зала. Сергей, шатаясь, сует мне пакет.
Я не беру. Пусть сам и несет, раз пообещал. Сильный мороз, а я потеряла одну перчатку. Или во мне заговорила некрасивая злоба на Бениславскую? На улице Сергей, показалось мне, сразу протрезвел. Я не соображаю дороги — куда… на Брюсовский? Увы, я ошиблась, на воздухе его и вовсе развезло. Он дважды падал, силенок моих не хватало, чтобы удержать, — удавалось разве что немного ослабить удар при падении. По второму разу Сергей, едва сделав несколько шагов, рванулся назад: исчез пакет! Ищем — нигде не видать… Верно, оборонил раньше… Мне стало стыдно. Но что уж теперь!.. Да мы почти у дома.
Больная сама поспешила открыть на звонок. Это тем более странно, что дом полон ее подруг. Смотрит на меня. Удивленное:
— Вы?
Не ждала, наивная ревнивица, что я приведу Есенина к ней, не к себе!..
А тот, запинаясь, винится, что не донес ее ужин. Галя с откровенным огорчением всплеснула руками.
Меня Сергей не отпускает — куда ты, надо же хоть обогреться.
И вот он возлежит халифом среди сонма одалисок. А я тихо злюсь: да разве не могли они сварить хоть кашу, хоть картошку своей голодной повелительнице? Или партийное самолюбие запрещает комсомолке кухонную возню? Дубины стоеросовые!
Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, кареглазую, кажется Аню Назарову.
Идет глупейшая игра, еще более пошлая, чем та, давешняя, с пожилой дивой в обжорном ночном притоне. «А он не бешеный?» — «Пощупаем нос. Если холодный, значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать — каждая — есенинский нос. «Здоров!» «Нет, болен, болен!» «Пусть полежит!».
Есенин отбивается от наседающих «ценительниц поэзии».
— Нет, ты, ты пощупай! — повернулся он вдруг ко мне и сам тянет мою руку к своему носу.
Прекращая глупую забаву, я тихо погладила его по голове, под злобным взглядом Галины коснулась губами век… и заспешила на волю: мне еще ползти на Волхонку в свою промерзшую конуру, печку топить, а завтра вставать чуть свет.