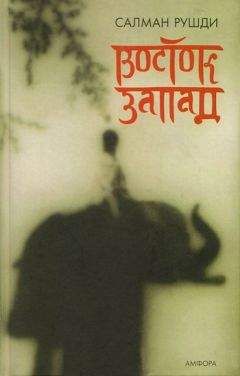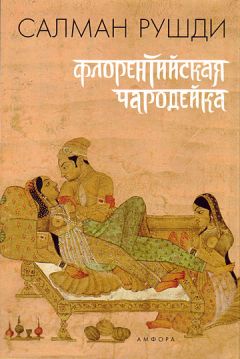нее выносимо. Вечером, не успев отойти от ссоры, они поехали в Национальный театр смотреть “Горский язык” Гарольда Пинтера. После пьесы он вышел с ощущением, что ему, как и персонажам Пинтера, запретили использовать свой язык. Его язык объявили неприличным, даже преступным. Он достоин суда, изгнания из общества, смерти – и все из-за языка, на котором изъясняется. Язык литературы уже сам по себе преступен.
Со смерти его отца прошел год. Он был даже рад, что Анис не видит, что творится с сыном. Он позвонил матери. Негин горячо его поддержала, посетовала на этих ужасных людей, но тут же неожиданно вступилась за Бога: “Эти люди могут говорить все, что угодно, Аллах в этом не виноват”. Он возразил: что ж это за бог, с которого нельзя спросить за поступки чтящих его? Зачем делать из него дитя малое, говорить, что он не властен над верующими? Негин стояла скалой: “Аллах не виноват”. Она сказала, что будет молиться за сына. Он не поверил своим ушам. Семья, в которой он рос, была не такой. Всего год прошел со дня смерти отца, а мать вдруг ни с того ни с сего молится! “Не надо за меня молиться, – сказал он. – Поняла? В нашей семье это не принято”. Она засмеялась на всякий случай, чтобы ненароком его не обидеть, но смысл его слов до нее не дошел.
Для южноафриканской проблемы нашлось компромиссное решение: он согласился выступить на конференции “Уикли мейл” по телефону из Лондона. Голос его долетел до Южной Африки, идеи его прозвучали в неведомом ему зале в Йоханнесбурге, но сам он при этом остался дома. Вариант не идеальный, но все лучше, чем ничего.
Великий шейх Аль-Азхара, Гад эль-Хак Али Гад эль Хак – имя казалось ему до невозможности допотопным, вышедшим из сказок “Тысячи и одной ночи”, из эпохи ковров-самолетов и волшебных ламп. Сей великий шейх, один из столпов исламского богословия, обосновавшийся в каирском университете Аль-Азхар мулла крайне консервативных взглядов, 22 ноября 1988 года разразился проклятиями в адрес кощунственной книги. Он был возмущен тем, что “ложь и плоды бесчестного воображения” подавались в ней под видом правды. Он призвал британских мусульман подавать на ее автора в суд, потребовал дружного выступления со стороны всех сорока шести государств – участников Организации Исламская конференция. Причем чувства его были задеты не только “Шайтанскими аятами” – воспользовавшись случаем, шейх возобновил нападки на лауреата Нобелевской премии египетского писателя Нагиба Махфуза, в чьем давнишнем романе из современной жизни “Дети нашего квартала” он также усматривал кощунство: в сюжете романа, видите ли, аллегорически отражалась история пророков от Ибрахима до Мухаммада. “Нельзя допускать книгу в продажу только потому, что ее автор получил Нобелевскую премию по литературе, – вещал шейх. – Никакая премия не оправдывает распространения лживых идей”.
Содержание этих двух книг, а также их авторы, кроме Гад эль-Хака Али Гад эль Хака, оскорбили и Слепого шейха Омара Абдель-Рахмана, впоследствии угодившего в тюрьму за причастность к теракту против нью-йоркского Всемирного торгового центра. Шейх Омар заявил, что если бы Махфуза в свое время подобающим образом наказали за “Детей нашего квартала”, то Рушди уже не посмел бы выпускать в свет свои “Шайтанские аяты”. В 1994 году преданный последователь шейха, посчитав его заявление равнозначным фетве, ударил Нагиба Махфуза ножом в шею. Пожилой писатель лишь по чистой случайности остался тогда в живых. На первых порах после фетвы, вынесенной аятоллой Хомейни, Махфуз выступил в защиту “Шайтанских аятов” и назвал поступок аятоллы “актом интеллектуального терроризма”, но потом мало-помалу переместился в неприятельский лагерь и начал произносить такие, например, суждения: “Рушди не имел права ни над чем и ни над кем насмехаться, особенно над пророком и над тем, что считается святыней”.
Отныне ему уже никуда было не деться от допотопно-баснословных имен, от шейхов слепых и великих, от студентов индийского Дар уль-Улюма [63], от ваххабитских мулл из Саудовской Аравии (там его книгу тоже запретили) и от примкнувших к ним вскоре иранских богословов из священного для шиитов Кума. До сих пор он не слишком-то обращал внимание на этих досточтимых особ, они же теперь не забывали о нем ни на минуту. Стремительно и не ведая сомнений, религиозный мир добился того, что противостояние шло по им самим установленным правилам. Мир светский – хуже организованный, не столь сплоченный и в целом более равнодушный – явно ему проигрывал, многие ключевые позиции были сданы им без боя.
Демонстрации верующих становились все многолюднее и производили все больше шума, когда южноафриканский писатель Пол Тревхела выступил со смелым эссе, в котором с левых позиций и в сугубо светских понятиях защищал писателя и его роман, называл развернутую исламистами кампанию “взрывом иррационализма масс”; из этой последней формулировки вытекал интересный и непростой для левака вопрос: как относиться к тому, что массы начинают вести себя иррационально? Или, если совсем просто, может ли “народ” быть не прав? По мысли Тревхелы, красной тряпкой для мусульман послужила “отчетливая светская направленность романа… выраженное в нем стремление (по словам Рушди) «рассказать о Мухаммаде так, как если бы он был обычным человеком»”. Он сравнивал “Шайтанские аяты” с тем, что в 1830-1849-0 годы делали в Германии младогегельянцы, с их критикой христианства и убежденностью, что – используя формулировку Карла Маркса – “человек создает религию, религия же не создает человека”. Тревхела причислял “Шайтанские аяты” к уходящей далеко в прошлое литературы антирелигиозной традиции, ставил в один ряд с произведениями Боккаччо, Чосера, Рабле, Аретино, Бальзака и требовал дать четкий светский ответ на нападки верующих. “Эту книгу не заставят умолкнуть, – писал он. – Мы наблюдаем сейчас, как в муках и крови рождается на свет новая эпоха революционного просвещения”.
Многие сторонники левых взглядов – такие как Джермейн Грир, Джон Берджер, Джон Ле Карре – идею о том, что массы могут ошибаться, допускали лишь с великим трудом. И пока либеральное общественное мнение разбиралось с внутренними своими колебаниями и неопределенностями, иррационализм масс становился все иррациональнее и все массовее.
Он был среди участников “Хартии-88”, название которой (некоторые комментаторы консервативного толка находили в нем “тщеславие”) стало данью памяти и уважения великой хартии свобод, “Хартии-77”, обнародованной чехословацкими диссидентами за одиннадцать лет до того. О создании “Хартии-88”, призывавшей к конституциональной реформе в стране, было объявлено в конце ноября на пресс-конференции в палате общин. Из сколько-нибудь заметных британских политиков на ней присутствовал только Робин Кук, будущий министр иностранных дел в правительстве лейбористов. Дело происходило в самый разгар правления