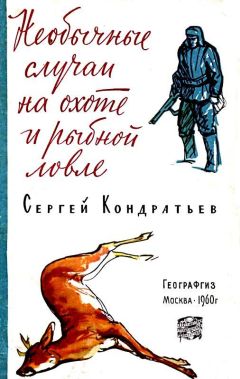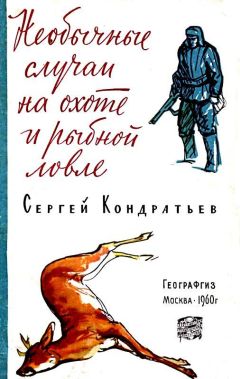Линкольну Стеффенсу, естественно, было интересно поговорить с таким представителем этого загадочного поколения, как молодой американец, прошедший войну и тяжело на ней раненный, живущий в Париже в окружении той богемы, которая испугала Стеффенса своим цинизмом и нежеланием задумываться над судьбой мира, к тому же человек, решивший стать писателем.
Однажды в Лозанне Хемингуэй пришел к Стеффенсу и попросил почитать его корреспонденции. Стеффенс вспоминал в своей «Автобиографии»: «Он только что перед этим вернулся с фронта войны, где наблюдал исход греческих беженцев из Турции, и его депеша сжато и ярко передавала все детали этого трагического потока голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их увидел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. «Нет, — возразил он, — вы читаете код. Только код. Ну разве это не замечательный язык?» Он не хвастал — так оно и было. Я припоминаю, что он сказал: «Я должен бросить заниматься журналистикой. Я слишком увлекаюсь жаргоном телеграфа».
В молодом журналисте было нечто такое, что заинтересовало Стеффенса, не говоря уже о впечатлении, которое произвел на него очерк Хемингуэя о беженцах. Он попросил Хемингуэя дать ему прочитать и другие его корреспонденции и рукописи рассказов, которые, по словам Хемингуэя, неукоснительно отвергали все журналы.
У Хемингуэя оказалась с собой рукопись рассказа «Мой старик», и он дал его прочитать Стеффенсу. Рассказ Стеффенсу понравился, он убедил его, что у Хемингуэя, как писал впоследствии Стеффенс, «есть будущее». Более того, Стеффенс послал этот рассказ своему знакомому Рею Лонгу в журнал «Космополитен».
Видимо, в это время Хемингуэй начал в свободные минуты работать над серией коротких записей, «сильных и горьких, как ночные письма», как назвал их американский критик Карлос Бейкер.
Он взял наиболее нравившуюся ему корреспонденцию об исходе беженцев из Анатолии и попробовал сократить и обработать ее так, чтобы, опустив все лишнее, постараться передать свои ощущения от этого зрелища и вызвать аналогичные ощущения и те же мысли у читателей. Из очерка получилась миниатюра всего в 13 строк. Он убрал эпитеты, общие места, сконцентрировал внимание на фигуре рожающей женщины. И вдруг понял, что материал этот обрел новое качество — он перестал быть очерком, описанием, появилось изображение. Пожалуй, это было то, чего он добивался.
Он попытался также записать коротко и выразительно кое-что из рассказов Чинка Дорман-Смита о битве при Монсе и о других эпизодах его пребывания на фронте во Франции. Он ставил перед собой задачу передать характерный жаргон английского офицера, сохранив тем самым элемент личного восприятия факта конкретным человеком.
Так появились на свет миниатюры: «Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани…»; «Мы попали в какой-то сад в Монсе…»; «Жара в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду…»
Он не собирался писать больших рассказов о человеке на войне, вероятно, потому, что чувствовал себя еще не готовым к этому. Пока что он стремился запечатлеть отдельные моменты, словно выхваченные лучом прожектора из темноты войны. Смерть, ставшая на войне обычным, естественным делом, бытом, непреложным фактом бытия людей, брошенных в эту мясорубку, человек перед лицом смерти — вот что его волновало.
Как-то в Париже он встретил своего старого знакомого по Ближнему Востоку, кинооператора Шорти Ворналла, и тот рассказал Хемингуэю заключительный эпизод греческой трагедии, свидетелем которого Ворналл оказался в Афинах 28 ноября 1922 года, через месяц после того, как Хемингуэй уехал из Турции в Париж, — расстрел шести греческих министров. Рассказ этот поразил Хемингуэя, и теперь он решил сделать из этого короткую миниатюру:
«Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени».
Это предельно лаконичное изображение убийства, лишенное, казалось бы, всякой эмоциональной авторской окраски, не может оставить читателя равнодушным — оно рождает ужас перед этой почти протокольно изложенной картиной убийства.
Хемингуэй знал, что Маргарет Андерсон — основательница и редактор влиятельного журнала «Литл ревью», которая переезжала из Чикаго в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Париж вслед, за писателями, печатавшимися у нее, — готовит специальный номер журнала, посвященный творчеству молодых американских писателей, обосновавшихся в Париже. Хемингуэй был приглашен участвовать в этом номере. Эти шесть миниатюр он послал в «Литл ревью».
Между тем подходили рождественские каникулы, и в работе конференции должен был быть устроен перерыв. Хемингуэй решил провести эти каникулы вместе с Хэдли в горах и предложил ей приехать в Лозанну.
Когда он встретил ее на вокзале, он сразу понял, что случилось несчастье. Она плакала навзрыд и не могла выговорить ни слова.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» он вспоминал об этом:
«Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом, наконец, она все рассказала».
Оказалось, что Хэдли решила сделать ему сюрприз и привезти в Швейцарию все его рукописи, включая главы неоконченного романа. Как впоследствии она объясняла, «Эрнест так хвалил в письмах Линкольна Стеффенса, своего нового друга, что я была уверена, что ему захочется показать Стеффенсу эти главы». Кроме того, она хотела дать Эрнесту возможность поработать над ними во время отдыха в горах. При этом она уложила в чемодан все оригиналы и машинописные экземпляры со всеми копиями. В этом чемодане оказалось все написанное им с 1919 года, включая то, над чем он работал еще в Мичигане.
На Лионском вокзале, оставив чемодан в купе поезда, она вышла купить бутылку минеральной воды. Когда она вернулась, чемодана не было — его украли.
«Я не мог поверить, — вспоминал Хемингуэй, — что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел в поезд и уехал в Париж, — я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдли, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом».