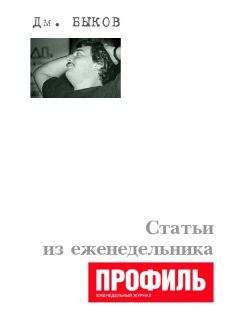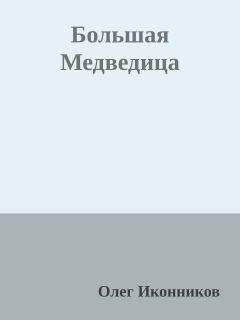№ 32(587), 1 сентября 2008 года
Я пишу эту колонку в Харькове, во время местного конгресса фантастов «Звездный мост».
Про этот конгресс, собравший лучших сказочников и пугальщиков Восточной Европы, можно рассказывать долго, но всем этим фантастам в результате коллективного мозгового штурма не удалось бы выдумать нынешнюю украинскую реальность, в которой Юлия Тимошенко оказалась прорусским политиком.
Это что-то невероятное, необъяснимое и непредсказуемое в смысле последствий. Юлия Тимошенко была главным тараном антикучмовской коалиции и пострадала от Кучмы больше всех. Ее называли главной героиней Майдана. Ее решимости мог позавидовать Ющенко, который, впрочем, мог бы позавидовать чьей угодно решимости — у него с ней проблемы, что, может, и к лучшему. Ее объявляли в розыск у нас в России, и только ее личный визит заставил Генпрокуратуру отказаться от преследования первой леди украинской политики. Блок Юлии Тимошенко был самой радикальной силой украинского «оранжевого переворота», называвшегося для красоты революцией, и автору этих строк казалось, что более беспринципного, талантливого и опасного человека, чем эта женщина с косой, нету на всем постсоветском пространстве.
Юлия Тимошенко, в сущности, классический олигарх переходных времен, клон Бориса Березовского — менее авантюрный, более расчетливый, но столь же непредсказуемый. Лично я против того, чтобы романтизировать Березовского, — он тоже прежде всего прагматик, не имеющий ни убеждений, ни моральных барьеров, решительно на все готовый ради выгод, причем выгод тактических, завтра рискующих обернуться поражениями, чем и предопределена его нынешняя скромная ниша. Зло и расчет вообще выигрывают только на коротких дистанциях — это один из основных законов мироздания. Тимошенко переходит на относительно прорусские позиции (умеренные, конечно, но от того не менее заметные) вовсе не потому, что сменила убеждения. Менять ей нечего. Просто она безошибочно чувствует готовность России поддержать ее в борьбе за власть в обмен на весьма зыбкие обещания — и готова прибегнуть к этой поддержке; и мы готовы считать это серьезным внешнеполитическим успехом. Один обозреватель так прямо и пишет: если Тимошенко на нашей стороне — значит, мы сильны. К сожалению, он не добавляет, что сало надо перепрятать.
Россия слишком привыкла повторять слова о том, что союзников у нее двое — армия и флот; сегодня к ним добавились нефть и газ. Что касается прочих друзей — подход к их выбору у нас нехитрый, по Филатову: «Кабы здесь толпился полк — в переборах был бы толк, ну а нет — хватай любого, будь он даже брянский волк». Традиционными союзниками России в мире считались такие режимы, рядом с которыми зазорно было существовать на одном глобусе: молчу уж про лобзания Леонида Ильича с людоедом Бокассой, не стану упоминать и о традиционных, взаимных нежных чувствах с ХАМАС, вспомню, к примеру, про клан Абашидзе, установивший в Аджарии режим многолетней и беспрекословной личной власти. Художества этого режима были общеизвестны и, чтобы хоть как-то обеспечить себе легитимность и поддержку, он объявил себя прорусским. И его поддерживали — недальновидно и неразборчиво, начисто забывая старинный принцип «Скажи мне, кто твой друг».
Именно благодаря этой неразборчивости Россия оказалась сегодня не то чтобы в изоляции, но в крайне пикантной компании. Уго Чавес и Даниэль Ортега — хорошие ребята, но не только в них дело. Вспомним, как умеренно и неохотно поддерживал нас Александр Лукашенко — для которого мы, между прочим, кое-что сделали; батьку всех белорусов давно объявили последним диктатором Европы, а мы все умилялись ему, наотрез отказываясь понимать, что никаких дружеских чувств он не может испытывать к нам по определению. Выгода — другое дело, с чутьем у него все в порядке; но почему-то наши друзья вообще очень любят нас предавать. Почему, отлично зная это, мы продолжаем делать ставку на самых беспринципных и отмороженных — для меня загадка. Потому ли, что других нет? Или потому, что дружба с другими требовала бы и от нас самих соблюдения неких принципов — а мы к этому, судя по нашей внешней, да и внутренней политике, не особенно готовы?
Я очень люблю Украину. Я хочу и дальше ездить сюда на конгрессы фантастов и просто в отпуск. И я не хочу, чтобы моя страна помогала Юлии Тимошенко, — потому что Юлия Тимошенко никогда не поможет моей стране, но бросит на нее отблеск столь недвусмысленный, что ассоциироваться с таким другом станет вовсе уж неприлично.
Впрочем, это вряд ли кого-нибудь остановит. Ибо Россия не только гениально выбирает внешних друзей, но и столь же уверенно записывает во внутренние враги всех, кто не восторгается этими друзьями.
№ 34(589), 15 сентября 2008 года
27 января в возрасте 76 лет умер от рака легких Джон Апдайк — последний из великой плеяды американских реалистов XX века.
Поколение, родившееся в 1922–1932 годах, давшее Трумена Капоте и Уильяма Стайрона, Фланнери О’Коннор и Джона Гарднера, Курта Воннегута и Джозефа Хеллера, Джека Керуака и Джеймса Болдуина, Нормана Мейлера и Сьюзен Зонтаг, было пестрым и разнородным, но кое-что объединяло всех. Их сформировала война — детская или юношеская память о ней; все они заявили о себе в пятидесятых, стали культовыми в шестидесятых, метались и теряли себя в семидесятых, а в восьмидесятых внятно предупредили о катастрофических сдвигах в обществе, чреватых новыми великими катаклизмами. Все они учли опыт титанов — Фолкнера, Хемингуэя, Андерсона, Синклера, Драйзера, — но пошли дальше: где великие модернисты видели сложность и непостижимые глубины человеческой натуры, следующее поколение в ужасе увидело пустоту. Точнее всех написал об этом Хеллер, чей лучший роман так и называется — «Что-то случилось». Это было сродни исчезновению материи в физике начала ХХ века. Частицы есть, а массы нет. Чем заполнится эта пустота, они не знали. Одни заполняли ее бунтом, другие — битничеством, третьи — бытом. Апдайк был из третьих — честный социальный реалист, скромно и двусмысленно называвший себя писателем среднего класса. Класс, однако, был высокий. Гораздо точней другое его самоопределение — кентавр: корни — несомненно классические, темы — почти исключительно современные.
Из всех сверстников Апдайк был ближе всего к русской романной школе, ибо с конца пятидесятых стал восторженным читателем и пропагандистом Набокова, несколько даже смущенного обожанием младшего коллеги. Между тем рабского подражания Набокову мы не найдем ни в его первых рассказах, ни в ранних романах — «Кентавре» или первой части тетралогии о Кролике Энгстроме. У Набокова и прочих русских гениев Апдайк перенял не стиль (о великой важности которого столько наговорил), а интерес к одной из главных русских проблем: что делает с человеком время и насколько он способен сопротивляться ему. В России этот вопрос стоит так остро потому, что у нас, в общем, страна, лишенная цивилизационных утешений: нет ни политики, ни демократии, ни светской жизни (разве что на самой верхушке) — одна чистая и простая жизнь: детство, отрочество, юность, первая любовь, обрыв, воскресение, отцы и дети, преступление и наказание, война и мир. Герои Апдайка не зря постоянно оглядываются на классику, а «Кентавр» так и вовсе построен на параллелях с античными образцами: главная драма жизни — необходимость приспосабливаться к ней и стираться, таять в процессе этого приспособления — всюду одна и та же. Потому и романы его тяготели к циклизации: четыре романа и рассказ о Кролике — «типичном представителе», изо всех сил бегущем от этой типичности; трилогия о Беке; дилогия об иствикских ведьмах (последний роман Апдайка, вышедший осенью прошлого года, — «Иствикские вдовы», о трех провинциальных львицах тридцать лет спустя). Он любил возвращаться к героям — взглянуть, что с ними происходит. Ничего особенно хорошего не происходило, но обнаруживались и новые радости; опыт взрослых не пригождался детям, внешний успех не спасал от внутренней опустошенности, нонконформист оказывался трусом, а вот в конформисте иногда как раз обнаруживались стоицизм и милосердие. Короче, на один из главных вопросов литературы — как работает время — Апдайк дал пространный, аргументированный и честный ответ.