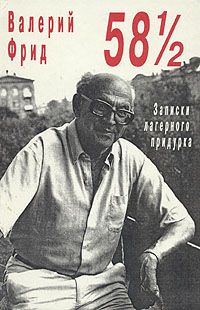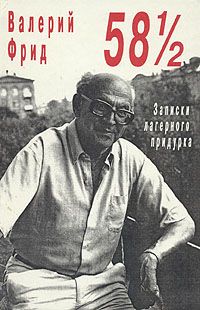Как и многие другие девушки из Мурманска и Архангельска, в лагерь она попала из-за союзников. Ее первым любовником был англичанин, сотрудник какой-то миссии. Иностранцев советские девушки всегда любили[39]. А этот еще и подкармливал Ритку и ее стариков. Все было бы хорошо, но он оказался извращенцем — садистом в прямом сексопатологическом смысле. Он мучил свою любовницу, щипал, выкручивал руки, колол булавками — и добился того, что у Риты появилось стойкое отвращение к физической близости. Свой арест и пятилетний срок она приняла с облегчением.
Не знаю, что ее привлекло во мне — скорее всего отсутствие грубости и агрессивности. Я Риту очень жалел, старался обращаться ней как можно осторожней и нежнее.
Попробовал убрать ее с общих работ. Для этого я пошел к доктору Куркчи, давнему сидельцу, крымскому татарину. Говорили, что он граф. Понятия не имею, водились ли среди крымских татар графы, но что Куркчи был интеллигентнейшим человеком с аристократическими манерами — это точно.
Стесняясь своего нахальства, я косноязычно попросил:
— Доктор, как бы это… как бы устроить Савенковой кант? Она же совсем фитилем стала, дошла на общих… Может, сунете в стационар?
В переводе это значило: как бы облегчить Савенковой жизнь? Она превратилась в дистрофика, отощала на общих работах. Может быть, положите ее в больницу?
Куркчи посмотрел на меня с сожалением:
— Фрид, дорогой мой Фрид. Что за язык? Вы первый год в лагере — подумайте, что с вами будет к концу срока?
Я смутился, покраснел, пробормотал такое же косноязычное извинение. Доктор был, конечно, прав — но только в широком смысле. Надо, надо было стараться сохранить человеческий облик. Но сказать по правде, о конце срока я тогда не думал. Это теперь, когда мне за семьдесят, десять лет выглядят коротким отрезком биографии. А тогда казалось, конца им не будет. Что же касается лексики, которая так шокировала доктора Куркчи, тут я останусь при особом мнении: феня — одно из моих важных приобретений. Трудно рассказывать о лагере, не пользуясь лагерным жаргоном. Солженицын с блеском доказал это не только «Одним днем Ивана Денисовича», но и «Архипелагом»…
Медики в лагере — большая сила. Это понимали все, даже блатные. Хотя случалось и такое: вор идет в санчасть, просит освобождение.
— На что жалуешься? — спрашивает врач.
— Живот болит. — Урка задирает рубаху, и доктор видит у него на пузе пресловутый «колун» с засунутым под штаны топорищем. Как тут не дать освобождения?.. Но до такого редко доходило: с врачами-зеками можно было договориться по-хорошему.
Доктор Куркчи не положил Риту в лазарет, он сделал лучше: велел нарядчику перевести ее в пошивочную мастерскую.
А в стационар она попала потом, совсем по другому делу. На комендантском уже год, как не было сахара. В конце концов его привезли и всю задолженность ликвидировали одним махом. Сахар был неочищенный — бурый, как будто политый нефтью. Зеки шипели: сами, падлы, белый хавают, а нам какой?! Но рады были и бурому. (Уже в наши дни я узнал, что просвещенные европейцы и американцы только такой неочищенный сахар и признают: он якобы полезней белого).
Ритке Савенковой причиталось килограмма два. Ей насыпали чуть не полный котелок. Она залезла с ним на верхние нары и слопала все за один присест — ела, ела, и не могла остановиться. А к вечеру температура сорок. Взяли девочку в лазарет, еле выходили. (Вот вам и «полезней белого». «Что немцу смерть, то русскому здорово» — и наоборот).
Ко мне Рита очень привязалась, но длиться долго нашему роману было не суждено. В один совсем не прекрасный день нарядчик объявил мне: готовься к этапу, поедешь в Ерцево.
Станция Ерцево южнее Кодина, там располагалось управление Каргопольлага и несколько его лагпунктов. Ехать ужасно не хотелось: здесь у меня была непыльная работенка, друзья и — не последнее дело! — любовь. Я кинулся в санчасть к доку Соловьеву. Доком, на американский манер, мы его звали за очки в золоченой оправе, пижонские усики и китель, на котором все армейские пуговицы были разные: английская, немецкая, польская, румынская. Такое у него было хобби. Медицина тоже была не профессией. Доктором Саша Соловьев не был, да и фельдшером стал в лагере: в Москве его главным занятием была игра на скачках. Ко мне, как к земляку — он жил когда-то в нашем Столешниковом переулке — док благоволил. Я спросил совета: как бы «закосить», лечь в стационар, чтоб не идти на этап?
Соловьев объяснил, что есть верный способ нагнать температуру: надо ввести под кожу кубиков двадцать дистиллированной воды.
— Но к сожалению, — развел руками док, — дистиллированной воды у меня нет.
— У меня есть! — Я выскочил из барака. На крыльце стояла бочка с дождевой водой. Набрав поллитровую банку, я вернулся к фельдшеру. Док не стал уточнять происхождение воды — игрок, человек азартный, он был заинтересован в исходе эксперимента. Набрал грязноватую воду в шприц, закатал мне под кожу полную порцию — и никакого эффекта! Ни воспаления, ни температуры — ничего. Соловьев удивился. Подумав, сказал:
— Есть еще один способ. Я не пробовал, но блатные это практикуют. Надо очистить небольшую луковицу, надрезать и ввести в задний проход.
Я огорчился: луковицы у меня не было.
— У меня есть! — с готовностью сказал док. Сказано — сделано. Очистили, надрезали, ввели, куда следовало — и снова нулевой результат. Я целые сутки ходил с этой луковицей, даже переночевал в таком виде со своей девушкой. Измерили температуру — 36 и 6!
Петька Якир — он только что вернулся с Юрк Ручья — объяснил мне, что температуру можно повысить простым напряжением мышц. Сам он не раз так делал: сидел раздетый до пояса, в каждой подмышке по градуснику (хитрое нововведение фельдшера Загорулько) и пыжась, напрягая мышцы, выжимал десятые градуса — до субфебрильной температуры 37,3 — 37,4. Если делать это изо дня в день и при том покашливать, могут положить в лазарет — с подозрением на ТБЦ.
Я этого не умел. Попробовал — не получилось. И решил воспользоваться тем, что прием в этот день вел не бдительный Загорулько, а старый доктор Розенрайх, который два градусника не ставил. Да ему и не до меня было: утром он в очередной раз извлек из кабинки пожарников свою возлюбленную, пышнотелую рыжую Машку, и пребывал в расстроенных чувствах. И я, вспомнив школьный, а также лубянский опыт, нащелкал себе ногтем тридцать восемь и одну. По болезни меня «отставили от этапа» — такая была формулировка. Но рано мы с Петькой и Ритой радовались. Уже через два дня пришла на лагпункт телефонограмма: «С первым проходящим вагонзаком отправить со всеми вещами и учетно-хозяйственными документами… и т. д.» Делать было нечего, пришлось собираться в дорогу.