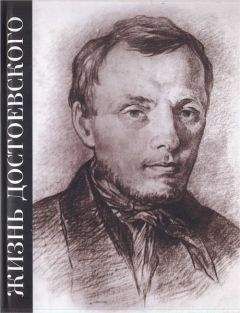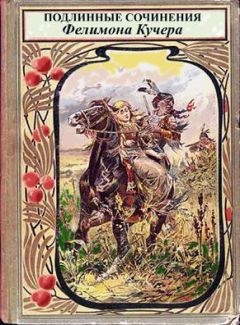— Виноват, виноват, проштрафился, думал, что не так скверно!
Улыбнувшись выходке Буткова, Достоевский очень добродушно, но притом твердо и без всякого снисхождения стал объяснять товарищу, почему его рассказ решительно никуда не годится.
Непререкаемым судьей в литературных делах был Достоевский не для одного Буткова. Однажды, как вспоминает доктор Яновский, у Федора Михайловича сошлись Михаил Михайлович, Бутков, Плещеев и еще несколько приятелей. Когда отставной унтер Евстафий, служивший у Достоевского, подал всем по стакану чая, Федор Михайлович обратился к Плещееву:
— Ну, батенька, прочтите нам, что вы там сделали из моего анекдотца.
Плещеев прочел свой рассказ, и было заметно, что самому автору рассказ нравится. Но Достоевский сурово покачал головой:
— Во-первых, вы меня не поняли и сочинили совсем другое, а не то, что я вам рассказывал, а во-вторых, и то, что сами придумали, выражено очень плохо.
Выслушав приговор, Плещеев не стал спорить и тут же при всех изорвал свою рукопись…
Резкость Достоевского не коробила. Он так горячо, так близко к сердцу принимал и удачи и промахи друзей, что никому в голову не приходило обижаться прямотою его суждений. Он не поучал, он учил. Он делился своим кровным — и делился с радостью.
Свободная, задушевная беседа в кругу друзей была для Федора Михайловича праздником. Нередко, когда удавалось выкроить несколько лишних рублей, Достоевский приглашал большую компанию приятелей отобедать в Hôtel de France на Малой Морской. Устраивали складчину. Нередко Достоевский платил за кого-нибудь из тех, кто в тот момент сидел на мели. Впрочем, все бывало очень скромно. Обед, который Федор Михайлович заказывал всегда сам, обходился не более двух рублей с персоны. Из напитков допускались: рюмка водки, величиною с наперсток, перед обедом и по два бокала шампанского за едой. Сам Достоевский, боясь всего возбуждающего нервы, водки не пил, а шампанского наливал себе четверть бокала и прихлебывал его по маленькому глоточку после тостов и застольных речей, которые очень любил произносить и произносил с увлечением.
Объясняя свое пристрастие к ресторанной кухне, Федор Михайлович с улыбкою говорил:
— Весело на душе становится, когда видишь, что бедный пролетарий сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею.
Однажды Достоевский в день выхода очередной книжки «Отечественных записок», где было напечатано новое его произведение, созвал друзей в ресторан.
К назначенному времени — трем часам пополудни — все собрались в зале. Пробило три, потом половину четвертого, но за стол отчего-то не садились и даже закуски не подавали. К устроителю обеда обратились недоуменные взоры, а затем вопросы.
— Ах, боже мой, — сконфуженно и вместе жалобно оправдывался Достоевский, — разве вы не видите, что Якова Петровича нет?
Он схватил шляпу и побежал на улицу. Через некоторое время воротился весьма взволнованный, ведя за собой Буткова. Вид у того был виноватый. Он бормотал нечто, понятное одному только Достоевскому:
— Да вот пойди ты с ним и толкуй, говорит одно, что книжка журнала еще не вышла, да и баста.
— Ну да вы попросили бы хоть половину, понимаете ли, — волновался Достоевский, — ну, хоть чуточку бы, а то как же теперь быть? Я пообещал еще двоим заплатить за них. Ну вот вы и попросили бы хоть красненькую, а то как же теперь?
Оказалось, что Достоевский не успел получить у Краевского деньги и попросил сходить за ними Буткова. Но так как номер «Отечественных записок» еще не пришел из типографии, Краевский денег не дал.
Узнав причину задержки, все развеселились, собрали недостающие рубли и приказали подавать обед.
За столом на этот раз было особенно оживленно, и Федор Михайлович, негодуя на Краевского, произнес такую пламенную речь об эксплуатации литературного труда Павлом Ивановичем Чичиковым (такое прозвище было дано в кружке Краевскому), что сотрапезники отвечали ему громкими рукоплесканиями и долго не умолкавшими криками «браво».
Ф. М. Достоевский и А. А. Краевский. Карикатура Н. Степанова в «Иллюстрированном альманахе». 1848 г.После обеда непременно подавали чай, и за разговорами чаепитие затягивалось до позднего вечера.
Когда же наступала неотвратимая минута прощания, Федор Михайлович подходил к каждому из своих товарищей, каждому с чувством жал руку и приговаривал:
— А ведь обед ничего, хорош. Рыба под соусом была даже очень и очень вкусная.
Якова Петровича Буткова он при этом еще и целовал. А Яков Петрович, в эту минуту вовсе не похожий на того «травленого волка», каким смотрел он на всех в редакции «Отечественных записок», благодушно и чуть лукаво улыбался и доверительно говорил:
— А вот, Федор Михайлович, тут, знаете ли, неподалеку открылось одно заведеньице — православная пирожковая лавочка: чай китайский, пиво казалетовское. Больших комфортов нет, а очень любезно, дешево и привольно-с! Вот я вас как-нибудь туда сведу… Нет, право, хорошо!
Беседы о литературе, дружеские обеды… Это были короткие часы отдохновения, некоторой душевной расслабленности, столь необходимой при вечном, берущим все силы души творческом напряжении. Но страстной, беспокойной натуре писателя, его ищущему уму требовалась все новая и новая духовная пища. Поэтому его неудержимо влекли к себе люди совсем особого склада — неудовлетворенные и жаждущие активного добра. Их он искал и находил.
Такого еще не видела старая Европа.
События разворачивались головокружительно, невероятно.
В ночь на 23 февраля 1848 года улицы Парижа покрылись баррикадами. Рабочие, ремесленники, присоединившиеся к ним национальные гвардейцы в течение следующего дня захватили казармы правительственных войск и к утру 24 февраля овладели городом. Король Луи-Филипп вместе с семейством бежал из столицы. Восставшие ворвались в Тюильрийский дворец и при всеобщем ликовании сожгли королевский трон. К вечеру того же дня было составлено временное правительство. Среди его членов оказались знаменитый социалист Луи-Блан и рабочий-революционер, участник лионского восстания, Альбер. 25 февраля в парижскую ратушу, где заседало правительство, явилась делегация от рабочих во главе со старым революционером Распайлем, которого в городе знали как непримиримого республиканца и еще как врача, бесплатно лечившего бедноту. Под угрозой нового восстания Распайль потребовал провозгласить Францию республикой и дал правительству два часа на размышления. Однако еще до истечения этого срока на стенах парижских домов появились плакаты со словами: «Французская республика. Свобода, равенство, братство».