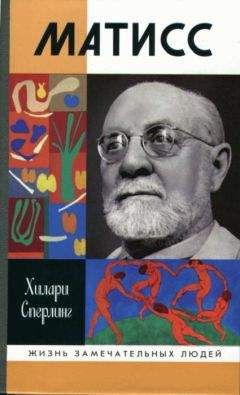В Бискре — цветущем оазисе среди песков пустыни — Матисс побывал в одном из пяти ее знаменитых садов. Лес из финиковых пальм показался ему чересчур экзотическим зрелищем, и писать в этом необычном саду он не решился. В городе, бывшем «сексуальной приманкой» для туристов, Матисса заворожили отнюдь не танцовщицы (оказавшиеся, надо сказать, ниже всякой критики), а ковры на тамошнем базаре (по-арабски — сук). Торговцы целый день сидели на корточках над черно-бело-желто-красными коврами, сотканными на примитивных ручных станках где-то в пустыне; рядом с каждым обязательно стояла банка с красной рыбкой. Ковры были главным товаром в этой африканской стране. Кроме смело расцвеченных ковров, все здесь казалось бесцветным из-за слепящего солнца. К коллекции, которую Матисс начал собирать еще студентом, в Бискре добавилось несколько молитвенных ковриков.
Помимо этих ковриков и нескольких изделий из керамики он не привез из Алжира ничего, что бы пригодилось ему как художнику. Большую часть времени Матисс пребывал в некотором оцепенении. «Я переходил от одного сюрприза к другому. Не могу сказать, чем было вызвано мое изумление — обширными пространствами страны, иным образом жизни или исключительно эмоциями живописца». К краскам Матисс вообще не прикасался и кроме одного-единственного уличного перекрестка в Бискре не написал ничего. Потом он говорил, что хотя двух недель явно было недостаточно, чтобы акклиматизироваться и узнать страну, но этого вполне хватило, чтобы до конца жизни в памяти сохранилась масса впечатлений. Некоторые из них — ковры, красные рыбки, похожий на принца араб — появятся в его работах позже. Но тогда, по возвращении в Кольюр, его больше всего занимал один вопрос: как отобразить ослепительный солнечный свет на холсте. «До поездки в Алжир это не казалось мне настолько интересным, но едва я вернулся, мною овладело неистовое желание писать». Надев удобные сандалии на веревочной подошве, Матисс принялся за работу. Он должен был проанализировать и обдумать свои впечатления, чтобы выяснить, куда движется и откуда пришел («Я постоянно думал о картинах, которые писал последние десять лет, и сказал себе: главное — оставаться самим собой»).
В тот самый момент, когда он особенно нуждался в дружеской поддержке, в Кольюр приехала Амели с тремя детьми. Впервые за три года семья наконец была в сборе. На открытке, посланной Саре и Майклу Стайнам, Матисс изобразил свое семейство: Амели кажется помолодевшей, но строга и решительна; сам он насмешливо глядит из-под очков в тонкой оправе; серьезная и спокойная Маргерит привычно позирует в сарафане с пышными рукавами и лентой в волосах; Жан и Пьер с торчащими ушами и бритыми головами (с надписью: «самые непослушные из всех») выглядят отчаянными сорванцами.
Матисс говорил Пикассо, что в то лето впервые обратил внимание на смелость и непосредственность рисунков своих детей. Пьер, которому в июне исполнилось шесть, скопировал этюд отца с розой в керамическом кувшине, привезенном из Бискры (Пьер Матисс продал его Берте Вейль за пятьдесят сантимов — это был первый шаг на пути к карьере одного из выдающихся арт-дилеров XX века, которую сделает младший сын Матисса). Еще Пьер придумал новый цвет и всю жизнь не мог забыть, как был расстроен, когда отец заявил, что такого цвета в природе не бывает. Семейная идиллия омрачалась лишь денежными проблемами, от которых пока не удавалось избавиться. «Наши дети с нами, — писал Матисс, озабоченный растущими тратами, — все трое. Они не обязаны поднимать настроение отцу, когда он впадает в уныние».
Жизнь в Кольюре была простой, приятной и сводилась к купанию, прогулкам и работе. Матисс проводил много времени в саду виллы «Пальма», где рисовал буйные джунгли с огромными эвкалиптами и магнолиями, китайскими финиковыми пальмами, редкими видами цитрусов и гранатов, оплетенньи цветущими вьюнками. Амели и Марго позировали ему дома или где-нибудь в окрестностях. Еще ему позировала итальянская натурщица Роза Арпино, которую Матиссы пригласили к себе погостить (прошлой зимой она позировала для «Радости жизни»). В ее дерзком профиле и мускулистом теле было что-то жизнерадостное и энергичное, что так вдохновляло Матисса и удивляло его жену. Все полюбили Розу, ставшую первой в череде моделей, которых Матиссы принимали словно членов своей семьи. Роза вместе с Маргерит позировала для моющейся в жестяном тазу обнаженной, а вместе с Амели — для серии сидящих за туалетным столом. В Кольюре, где нравы были по-испански строгими, позирование обнаженной становилось проблемой даже для профессиональной натурщицы. Амели и той приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы позировать мужу: в шесть утра выйти из «Отель де ла Гар», чтобы успеть пройти по железнодорожному тоннелю вслед на мчащимся экспрессом Париж — Барселона, а затем взобраться на поросший лесом горный склон. «Мы бывали там десяток раз, и никто нас ни разу не побеспокоил, — объяснял Матисс Мангену. — Но это означало час ходьбы, а возвращаться приходилось в десять или одиннадцать под палящим солнцем». Он написал Амели в компании с нагой нимфой (возможно, для нее позировала Роза) и двумя маленькими мальчиками; один из них играл на свирели, точно как алжирский погонщик коз или одинокий гуляка из «Радости жизни». Еще он написал жену лежащей в траве на поляне и моющей ноги в ручье, быстро набросав фигуру и пейзаж стремительными ударами кисти.
Он также написал Маргерит, придерживающую шляпу с вуалью, готовую сорваться от сильного ветра. В то первое для нее лето в Кольюре девочка позировала целыми днями; до наступления сумерек — читающей в мастерской в платье с высоким кружевным воротником, а затем снимала одежду и подкалывала волосы кверху, чтобы позировать для «Стоящей обнаженной», которую отец лепил из глины. Матисс снова вернулся к скульптуре. Симметричная поза, большая голова, длинные руки, короткие ноги, выступающие ягодицы и живот — все в маленькой фигурке дочери свидетельствовало об отходе от анатомической правильности. Матисс двигался к принципиально иной интерпретации человеческого тела, так поразившей его в африканской и египетской скульптуре. К концу лета он сделал ряд вариаций на тему «Стоящей обнаженной». Художник переходил от одной крайности к другой: в одной статуэтке фигура была обрезана до классически правильного торса без рук и головы, а ноги обрублены чуть выше колен; в другой углубления подмышек, промежности и пупка подчеркивали точеную выпуклость ягодиц, грудей и узких плеч.
Первую статуэтку Матисс поместил в один из своих натюрмортов, что ознаменовало начало постепенного исчезновения (как это уже случилось в пейзажах) традиционных различий между формой и содержанием, передним и задним планами, горизонтальными и вертикальными плоскостями. Подобный отказ от общепринятых правил таил в себе угрозу как для художника, так и для публики. В последующие годы рядом с вазой с двумя ручками или керамическим кувшином из Бискры, цветами, фруктами и овощами с кольюрского рынка в его натюрмортах часто будет появляться та или иная глиняная фигурка. Сопоставление живого и неживого всегда пугало его. «Я чувствую страх перед началом работы с предметами, одушевление которых должно исходить от меня, от моих собственных чувств», — писал художник своему сыну Пьеру в 1940 году; во время войны из-за постоянных переживаний он не мог концентрироваться на цветах и фруктах, как прежде. Даже в семидесятилетнем возрасте Матисс все еще нуждался в одушевленных моделях, успокаивавших его во время сражений с холстом. «Они удерживают меня среди моих цветов и фруктов, с которыми мне удается установить контакт, почти не отдавая себе в этом отчета… и все, что мне остается делать, — это ожидать вдохновения, которое не замедлит наступить» («le coup de foudre qui ne peut manque»).