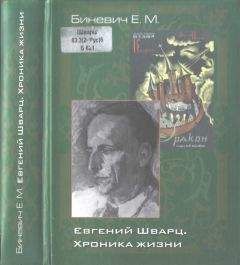Как‑то я показал ему попавшуюся мне в руки нелепую книжонку «Джентльмен, или Настольная книга изящного мужчины». Он взял ее в руки и, перелистывая страницу за страницей, громко, раскатисто хохотал и что‑то проговаривал губами. Тут еще не было ничего удивительного — книжка эта способна была развеселить каждого. Смехотворны были и самый предмет изложения, и многозначительность, даже философичность языка, каким она была написана. Но Шварц, листая ее, проигрывал про себя весь процесс превращения невоспитанного и неуклюжего простака в заправского «изящного мужчину». Он чуть щурил глаза, почти закрывал их, потом задирал высоко голову, опускал ее и снова начинал хохотать.
Но больше всего — и совсем по — другому — любил Евгений Львович читать книги по орнитологии и энтомологии. Его привлекали не популярные и поверхностные пересказы, а серьезные научные исследования, из которых он умудрился вычитать множество поразительных новостей, касающихся повседневного быта птиц и насекомых, осенних перелетов журавлей или героических горестных зимовок синиц. Все, что он узнавал о необыкновенных путешествиях угрей или о «боевых порядках» перелетных птиц, вызывало у него такую искреннюю, такую ненаигранную гордость, что можно было подумать, будто он имеет к этому делу самое прямое отношение.
— А знаешь ли ты, — как‑то спросил он меня со всей строгостью, — что муравьи до сих пор не могут избавиться от матриархата?
Трудно сказать, что именно имел он в виду под этим «до сих пор», но получалось так, что в словах его звучал скрытый упрек. Дескать, мы, люди, давным — давно покончили с этим недопустимым явлением, а они все еще не могут справиться с ним.
Он надменно смотрит на своего униженного собеседника, не способного предложить муравьям сколько‑нибудь реальный выход из положения. Он весь светится от чувства собственного превосходства и так счастлив, что можно предположить, будто муравьиная косность приносит ему личное удовлетворение. Ничего не поделаешь, так уж он устроен — все интересное, что он узнает, все самые поразительные чудеса мира и все разгадки жизни оказываются в конце — концов подтверждением его личной правоты.
— Я же говорил, что в собачьем языке есть глаголы и есть существительные. — Он не довольствуется одной только констатацией этого ошеломляющего факта, а еще и показывает, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Но не такой Евгений Львович человек, чтобы при этом еще и улыбаться. Он смотрит на собеседника серьезно, величественно и торжествующе. Сомнений в его взгляде нет. Ему и в голову не приходит, что сделанное им открытие может кому‑нибудь показаться шуткой. При чем тут шутки?
С вопросом о муравьях он расстается тоже не сразу. Удерживаясь от чрезмерной экзальтации, но все же будучи не в состоянии скрыть от окружающих испытываемое им душевное волнение, он с размеренной доскональностью излагает факты и только факты. В ритме его речи всегда есть что‑то от неторопливого, тщательно обдумываемого перечисления. Кажется, что все произносимые им слова заранее расставлены по местам, занумерованы, и ему не остается ничего иного, как слепо подчиниться этой нумерации.
— Сидит, видишь ли, главная муравьиха и делает муравьям одолжение — великодушно принимает знаки их восхищения. От толщины она уже не может подняться с места, ей уже и дышать невозможно, а она все жрет и жрет. Можешь себе представить, каждый муравей после работы тащит с собой что‑нибудь съестное, и вовсе не для себя, а для нее. Сам умирает с голоду, но все‑таки пихает, несчастный лакей, пережеванную им самим еду прямо в пасть прожорливой муравьихе. И ко всему еще кланяется ей за это.
Последнюю знаменательную подробность, касающуюся кормления бесстыдной муравьихи, он припасает на конец своего рассказа. Именно в ней Евгений Львович усматривает поразительный психологический феномен, способный вызвать многочисленные и горькие житейские ассоциации. Впрочем, если говорить по правде, то никаких отчетливых ассоциаций тут и не требуется. Шварц не только рассказывает, но и одновременно показывает разбухшую паразитку, и не только показывает, но и срывает с нее позорную муравьиную черноту. Лишенная этого наряда, она оказывается до нелепого знакомой, хоть и безымянной, личностью, и совсем не муравьихой, а целым явлением, самим пороком, злом, сгустком низости и мерзости самовозвеличения и бесцеремонности.
Мне кажется, что где‑то внутри себя Щварц жил напряженной и трудной жизнью следопыта и фантазера, искателя и алхимика, вечно смешивающего разные зелья и никогда не знающего, что из этого получится. Главное, что ему требовалось, — это материальное, весомое, ощутимое подтверждение той вечно важной истины, что творческие и нравственные силы человека безмерны, что добро — это порядок, а зло непорядок. Как художник, распоряжающийся судьбами своих героев, он был уверен, что еще далеко не исчерпаны средства, при помощи которых созидатель мог бы одерживать новые победы над потребителем, человек, живущий для общества, одолевал бы презренного тунеядца, думающего только о себе.
Я не встречал в своей жизни людей, которые столь же ясно и предметно, как он, столь же определенно и зримо представляли бы себе одновременно и силу человека и его слабость, красоту и уродство, значительность и мизерность. Можно сказать без всякого преувеличения, что он не только представлял их себе, понимал их, но и видел их и слышал. Казалось, что если он прикоснется к этой самой значительности или мизерности, то услышит звон стекла или громыхание железа, стук дерева или плеск воды, скрип или шорох.
— Как, — сказал он мне однажды — разве ты не знаешь, что у скупости есть свой фасон?
Он тут же показал мне этот фасон руками. Получалось что‑то вроде гроба, нечто отталкивающе неприятное. Когда я увидел его жест, мне показалось, что нельзя представить себе более подходящее вместилище для всего, что урывают от жизни проклятая человеческая жадность, не знающее цели жесткое и тупое накопительство.
Если бы кто‑нибудь задался целью охарактеризовать Евгения Львовича Шварца как человека при помощи ходовых, широко распространенных и на все случаи годных определений, он потерпел бы решительную неудачу. Можно, конечно, сказать с полной уверенностью, что он был необыкновенно добрым художником, и не просто добрым, а активно добрым, именно добротой своей побуждаемый к творчеству. Но в нем не было ни капли той всеядной и жалостливой доброты, заметить которую проще всего, но которая зато и стоит не так уж много. Все его человеческие свойства были окрашены его индивидуальностью: он был по — своему добр и по — своему проницателен, скрытен какой‑то особенной скрытностью и откровенен тоже особенной, так сказать, в цвет характера, откровенностью. Если бы речь шла не о нравственных чертах, а об одежде, можно было бы сказать, что он никогда не носил готового платья.