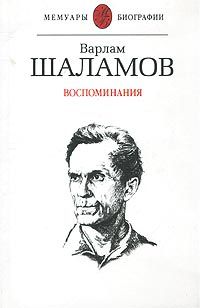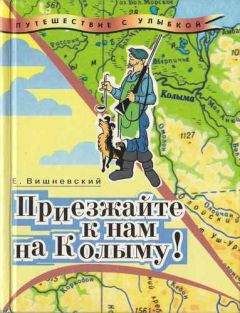Джелгала. Драбкин
На Джелгале[33] я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца войны в лагерях, которые «пересиживали»[34]. По свойствам моей юридической натуры, моего личного опыта, бесчисленных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением ее.
Я знал, знал ещё с Вишеры, что лагерь — это такое место, где лишнего дня держать не будут по собственной инициативе, что остаться лишний день в зоне после освобождения — абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали заявления, телеграммы на имя Сталина — словом, старались использовать лагерную демократию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону приехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа[35] Драбкин.
Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал, что наибольший урон НКВД нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работников из расстрельного аппарата.
На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов — член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной фигурой в литературных салонах Москвы. Ягода покровительствовал Горькому и всем его затеям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой Ивана Гавриловича была библиотекарша Дома Герцена[36], ездившая с мужем и на Вишеру и на Колыму. Открывать Колыму Берзин взял Филиппова с собой. Ёше в 1935 году, к 3-летию Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-м умер в магаданской тюрьме от сердечной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную, кровавую деятельность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Партизан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют. Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» — по тут же спущенной вниз легенде) и расстрелян. Заместителем Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого повидать я не успел.
В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Там заключенные должны были строить порт. Нужное количество продуктов туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время одной из бурь все продукты смыло в море. Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить продукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.
Павлов с помощью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей, но маятник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гаранинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не расстреляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую землю.
После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне неизвестна. Сейчас был Драбкин — он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ленинградского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку. Например, при объезде центральной больницы в 1952 году.
— Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не «зэка», а «заключенный». Не надо портить русский язык, — говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.
После ареста Берии Жуков застрелился в Магадане. Какая сила управляет этими страстями, этими судьбами?
Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:
— Внимание, встать!
В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед:
— Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали? Барак молчал.
— Я — самый главный на Колыме. Я — начальник УСВИТЛа, начальник вашего лагеря. Прошу задавать вопросы.
— Почему мы пересиживаем срок?
— То есть как пересиживаете срок — юридическая вольность какая, — весело говорил Драбкин своим спутникам-телохранителям. — Объясните.
— У нас кончился срок ещё много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут начальство не может объяснить, в чем дело.
— Где здесь начальник?
Местный работник предстал перед взором Драбкина.
— Что вы им, — жест в сторону заключенных, — не объяснили советских законов, что у нас никто не пересиживает срок? А вы, — Драбкин повернулся к задавшему вопрос, — разве вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном положении?
— Нам говорили в УРЧ — задержаны до конца войны, но никаких документов не присылали.
— Ах, вам не показывали документов. Ну эту ошибку я легко исправлю. Ещё вопросы есть?
Вопросов не было.
— Вот видите, а то говорите — пересиживаем, — улыбался Драбкин. — У нас нет людей, которые бы что-то пересиживали.
И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и года…
В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца[37]. Это была крошечная камера полтора на два метра деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изолятора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер ещё меньше. Как изолятор был карцером для джелгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти полтора месяца. Кормили меня — триста граммов, кружка воды и суп через день. Изолятор был построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы — это роты усиленного режима. О РУРе на прииске «Партизан» в 1938 году написан мой документальный очерк «РУР». Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл. Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они где-то неподалеку, потому что на обед их приводили, дневальный за обедом, конечно, не ходил, но к обеду все было готово.