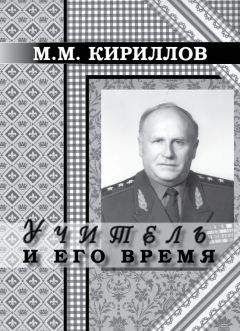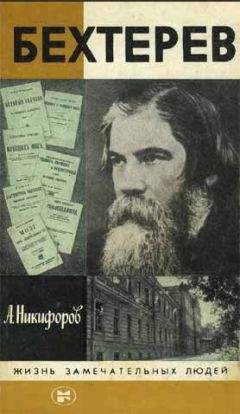И в эти годы, как правило, не вдаваясь в политический анализ, не откликаясь на мои «политические страдания» впрямую, он постоянно напоминал о важности сохранения профессиональной, в том числе научной, высоты, продолжения интересной работы с больными – как самой продуктивной формы сопротивления происходящему развалу здравоохранения и науки в стране. Это оружие нам ближе, как бы говорил он, пользуясь им, мы наиболее эффективно можем что-то делать для Родины. И сделано было немало. И им – тоже.
Если бы не возможность работать, быть полезным больным и ученикам, а это составляло основу моей ежедневной реальной жизни все эти трудные годы, что бы со мной было? Однако только добросовестной профессиональной деятельности в сложившейся ситуации было, конечно, недостаточно.
Июнь 1996 г. Президентская предвыборная борьба достигает апогея. Выборы подтасованы, у власти – вновь Ельцин. Многие уже и при этом строе живут, как будто так было всю жизнь. Происходит массовое перерождение сознания людей. Речь идет не о тех, кто и прежде был против Советской власти, они, по крайней мере, остались верными себе. И не о миллионах трудящихся. Речь идет о тех, кто выучился и вырос благодаря власти трудящихся, кому отдавалось все лучшее, что мог создать рабочий класс, кому было доверено руководство страной, на кого надеялись, считали «умом, честью и совестью» Советской страны. О «жирном слое» руководства КПСС последних 30 лет и обслуживавшей его интеллигенции, тосковавшей о большем куске и большей индивидуальной свободе для себя за счет свободы народа. Это приобретает различные формы. Но объединяет перерожденцев умершая совесть. Это тревожит меня.
В письме от 29.11.1997 г. я поделился с Е. В. своими соображениями о природе перерождения бывшей советской интеллигенции и выслал ему свой очерк «О Христе», о преданности как жизненном принципе.
«Прошлое манит. В нем ответ на многие сомнения. Прочел замечательную книгу Александра Меня «Сын человеческий». И утонул в садах Назарета…
Маленьким я был крещен своей бабушкой Аграфеной Семеновной, но до взрослых лет никогда, казалось, не приближался к мыслям о Боге и тем более о церкви. Но тетерь я думаю, что это было не совсем так.
В памяти всплывает воспоминание о разбитой, ободранной церкви где-то, в деревне под Москвой, куда летом 1943 года нас, заводских ребятишек, вывезли на отдых. Даже такая, она была высокой и красивой посреди темных деревянных изб. У нее было женское естество. Ей, молчаливой, было как бы неловко за свою наготу и заброшенность. И она, сторонясь людей, смотрела на них с укором.
Вспомнилось, как в конце августа 1946 года пошли в церковь на Ваганьковском кладбище, где только что похоронили мою маму. Пошли с женщиной, которую отец вскоре взял в жены. Эта простая женщина, ставшая потом для нас троих оставшихся мальчишек новой матерью, так ласково и нежно приняла мое раннее хрупкое мальчишеское горе, что с этого момента и усыновила. И с этой лаской, которая пролилась на нас в то тяжелое время, соединились печальная музыка храма, мерцание свечей, запах ладана, лики святых. Мне всегда потом было совестно, что многие годы ей, уже старенькой, приходилось молиться тайком от нас, молодых и сильных, перед иконками на кухонной полке. Иконки стоят и сейчас.
Помню прекрасную, видную за многие километры, церковь в деревне под Иркутском по дороге к Александровскому централу. Церковь была загажена, железные ворота скрипели… Рядом была могила декабриста Сергея Муравьева-Апостола. Непонятно было, чем же она, эта красавица, простоявшая более 170 лет, заслужила такое забвение.
Помню пение капеллы в Андреевском соборе в Киеве, самом светлом и изящном из виденных мной православных соборов.
Все это я вспомнил, читая книгу Меня. Впервые передо мной встал образ Христа-человека. Но возникали и противоречия. Нуждаясь в Боге, как в источнике добра, я, должен признаться, не находил в себе потребности в посещении церкви как учреждения культа. Более того, сами священники вызывали у меня неприязнь своей претензией на занятость и некую значительность, которая ассоциировалась ими с Богом при их очевидной собственной малости. Конечно, в их службе в этой конторе особого свойства было нелегкое, очень регламентированное правилами бремя обслуживания прихожан. Многим людям все это было нужно. Но я не видел среди них образцы служения и глубокой веры. Убранство видел, а веры – нет. Чем богаче была церковь, тем роскошнее были одежды, а больше ли веры? Вот это уважения и потребности общаться с ними не вызывало. Сама претензия на особенное, кого бы это ни касалось, ложна, свойственна фарисеям – хранителям формы, а не сути. Во всяком случае, я бы не поручил этой конторе ничего из того, что мне представляется духовным в себе. Если полагать, что всем лучшим я обязан Богу, пусть данным мне через моих учителей, мне проще, естественнее иметь с ним непосредственный диалог…
Церковная контора. Мне запомнилось посещение католического собора во Львове в марте 1975 года. Запомнились скульптуры и прекрасная живопись икон. Глаза Марии долго не отпускали меня, завораживая и волнуя своим сходством с моей мамой. И сейчас вижу, как на мокром полу при входе в храм распласталась старушка в мольбе и глубокой вере. В ней назначение храма и вера были неразделимы. Это потрясало. Но помню и то, как отпускал грехи, выслушивая кратко исповеди с обеих сторон исповедальни, жирный, рыжий, в наспех надетой рясе, чуть ли не ковыряющий в зубах священник. Ждали его долго человек тридцать, а отпустил он их, приняв дары, минут за двадцать, что-то односложное ответив торопящимся выразить ему каждый свое, такое интимное, такое разное, такое больное. Врач на амбулаторном приеме не в состоянии работать таким скоростным и абсолютно безбожным способом. Я видел все это из-за колонны, находясь среди строительных лесов, напротив этого ремесленника. Распластанная старушка и этот «носитель» рясы…
Кто же Иисус Христос – человек? По А. Меню, – выходец из бедноты и защитник бедных, революционер в области человеческой и социальной этики, говоривший людям об их более высоком предназначении, не используемом ими, требовавший от них осмысленного служения главному – любви, добру. Он был революционер духа, предлагавший людям живую веру, когда бы законы и книги не управляли их сердцами, а использовались ими. В идеальном случае человек становился подобным Богу, и сам Христос призывал к этому идеалу. Но это, и это было условием, не давало такому человеку преимуществ, не составляло богатства, не позволяло ему обязывать других, но делало его источником веры для других, учителем, примером.
Христос был интернационалистом – Он не делал различий между людьми разных национальностей и мест проживания. Более того, он избегал проповедовать в родном ему Назарете, так как именно здесь, в своем отечестве, к его сожалению, не мог рассчитывать на понимание своего учения.