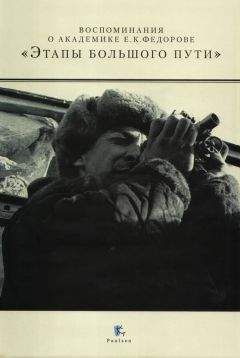— Мамочка, за что они тебя взяли?
— Это недоразумение, милый мой! Я скоро вернусь… Когда ты подрастешь, я все тебе расскажу…
Младший, сидя на руках у отца, чтобы хоть что-то видеть за головами стоящих впереди, с веселым любопытством смотрел широко открытыми темными глазами.
— Посмотри, Женя как он читает, — сказала мама и сунула ему какую-то книжку.
— «Илья Ейенбуйг Не переводя дыхания», — одним духом быстро прочёл малыш. Он совершенно не выговаривал буквы «р»…
Я писала маме, чтобы она не приводила ребят в тюрьму, но видно, она не могла удержаться. Ведь может быть, они больше НИКОГДА меня не увидят… И хотя я писала, чтобы мама их не брала, но в душе надеялась, что она всё равно не послушается. Поэтому, когда я уходила из камеры, я захватила две шоколадки — на всякий случай. И теперь я попросила одного из стражей передать их моим детям.
— Не положено, — сухо ответил он, но мама торопливо закивала мне: — Передадим, передадим!..
Потом, много лет подряд, ребята получали подарки «от мамы»…
…Но вот, наконец, настал и мой черёд прощаться с Бутырками. Меня, вместе с несколькими другими из нашей камеры, взяли на этап.
Нас выстроили по четыре в ряд «с вещами» под сводами просторного Бутырского «вокзала», и двери, величиной в целую стену, раздвинулись перед нами бесшумно, как по волшебству, прямо как в сказке: «Сезам, откройся!.».
— Вперёд… Шагом… аррш! — скомандовал начальник конвоя и мы нестройно, спотыкаясь от волнения, волоча свои рюкзаки и сумки, непомерно разросшиеся от передач, вышли за «волшебную» стену.
«Сезам» бесшумно закрылся за нашими спинами…
Мое дело было закончено. С ним кончилась и моя молодость. И повесть о годах моей молодости тоже подходит к концу.
Начались мои бесконечные скитания по лагерям, пересыльным тюрьмам и местам «не столь (и весьма) отдаленным», растянувшиеся более чем на двадцать лет…
Об этом я расскажу в другой книге, если Бог отпустит мне на это ещё немного времени.
Сейчас же осталось досказать немногое, — то, что всё ещё продолжает тревожить мой ум и память, и теперь, много лет спустя.
I
…Я часто прохожу по Арбату мимо этого неприметного грязно-желтого двухэтажного дома со старинными узкими, высокими окнами. Сам дом не производит впечатления старинного, а просто старого, давно не подновлявшегося.
И странно у двери на высоком крыльце прочесть тоже неприметную чёрную вывесочку: Военный Трибунал Московского Военного Округа. Такое страшное учреждение в таком ничем не примечательном доме, среди других — больших и новых, его даже домишкой можно назвать…
И еще страннее представить себе что внизу, в комнате с зарешеченными окнами, со стенами сплошь заставленными шкафами-ячейками, в какой-то одной ячейке лежит толстая папка с моим «делом». С делом Фёдоровой Е. Н., и в правом углу этой ничем не примечательной папки жирным шрифтом напечатано: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».
Я иду себе по Арбату, а эта папка, листы которой пестрят моей фамилией, именем и отчеством, — лежит тут, рядом, за железными замками, за дубовыми Дверями…
А может быть уже и не лежит. Теперь, после того, как Трибунал взорвался (в буквальном, а не переносном смысле) может уже лежит где-нибудь в ином месте, хотя, окна архива всё также смотрят на Арбат своими зарешёченными проёмами. Повреждения после взрыва видны только со двора и там сделали срочный ремонт.
Взорвался Трибунал ночью — где-то в подвале вспыхнул газ. Грохот и столб пламени был, говорят, грандиозный. Все окрестные арбатовские жители проснулись обливаясь холодным потом — началось! Первая бомба!..
Случись это в каких-нибудь тридцатых годах — можно себе представить, какое бы вспыхнуло и раздулось дело сколько людей сложило бы головы.
Так вот, лежит ли, хранится ли, мое дело там сейчас — не знаю, но где-нибудь обязательно хранится, — ведь вечность ещё не кончилась! Но ещё в 1956-м знаю, точно, что лежало, знаю, потому что в один момент его тут же разыскали, когда мне понадобилась справка из моего дела и я пришла за ней. Тогда-то я и увидала этот жирный оттиск: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».
Я иду по Арбату, а рядом, за грязно-жёлтой стеной, лежит повесть о моей жизни. Наверное важная повесть, раз её необходимо хранить вечно!.
Я тоже храню ее безо всяких замков и запоров в моей памяти. Храню вечно, ибо для меня — моя жизнь — это вечность. Это всё, что отпущено мне Богом, моя жизнь.
Через двадцать два года, вскоре после моей реабилитации, мы снова встретились с Юрием Ефремовым. Он сам нашёл меня, и начал «искренне» мне сочувствовать. Я напомнила ему о «голубой молодежи», и сказала, что теперь я знаю, кто он из этой «голубой» четверки. С замешательством, но все же вызывающе он ответил:
— Ну, что-ж… Бей меня по морде…
Ждал ли он, что я ударю? Я не ударила и была вознаграждена потоком трагических признаний, или, вернее, полупризнаний, ибо есть слова, которые ни написать, ни произнести невозможно. То, что я услышала тогда, не было для меня неожиданностью. К тому времени я уже и так знала все.
Он клялся, что любил меня. Он говорил, что был уверен, что мне не навредил. Клялся, что мой арест был для него неожиданностью. А «страшную фразу» моей мамы о «ста тысячах» он слышал впервые там, от них, в дни, когда сам был раздавлен, деморализован, далек от человеческого облика.
Мне стало противно его слушать, ведь я знала, что это опять ложь. Но было и немного жаль его, так как я понимала, что должно было происходить с его совестью.
— Разговоры со мной в НКВД, — говорил он мне, — велись все время в тоне ультимативных обещаний «воссоединить» нас в тюрьме, а по набору ругательств в твой адрес я мог судить, что тебя ждет. Меня громили за слепоту, близорукость, за то, что я не разглядел в тебе подлинное исчадие ада.
…А время идет, и идет. И вот прошли еще новых двадцать лет. Теперь он — видный деятель науки. Член Союза писателей. У него географические труды. И издан сборничек стихов. Он ездит в заграничные командировки. Читает лекции и делает доклады. Он — поклонник Рериха, Цветаевой и Пастернака. У него жена, дети и внуки уже. Кооперативная квартира и дача.
Дома его все обожают. Друзья — любят. К своему шестидесятилетию он получил с полсотни поздравительных телеграмм со всех концов страны. Было и чествование, был и банкет.
Мы встретились с ним еще несколько раз. Мне хотелось до конца понять его, и может быть всё-таки попытаться найти какие-то мотивы для оправдания… Я понимала, что о прошлом он говорит только полуправду, но мы уже больше этого прошлого почти не касались — что толку?