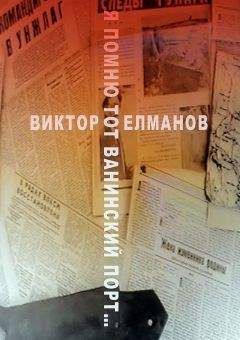А вот из чего рождается картина, с чего она начинается, я едва ли смогу определить. Зачастую она начинается с настроения, причем я одно время пытался себя контролировать, чтобы понять, как оно появляется, — бесполезно. Точно так же, как ты не можешь заказывать себе сны, ты не можешь и заказывать настроение. Иногда бывает, что все возникает из-за какой-то вспышки, а иногда ты носишь образ картины, ее название годами, но не можешь воплотить в реальный, зримый образ. Например, у меня есть две давно вынашиваемые задумки. Первая — «Белая гвардия», но что сделать, какой момент? Я много думал о том, чтобы сделать их первый «ледяной» поход — это когда они уходили на Дон, на Новочеркасск. Но нет символа, никак не могу его найти. А вторая задумка, думаю, так и останется на уровне задумки, потому что для нее нужно изобразить слишком много людей, а я не люблю людей, они не стоят моей любви. А задумка состоит в следующем: это триптих «Мастер и Маргарита», три графических полотна — «Белые», «Красные» и «Серые» или «Черные». Это можно и нужно сделать интересно, но я все время опасаюсь того, что определяю для себя как «глазуновщина»: когда хрестоматийные портретики повторены так, как в хрестоматиях, и получается, что один освещен с этой стороны, а другой — с той. Но сомневаюсь, что смогу воплотить этот триптих в жизнь.
Или, например, у меня есть цикл «Путешествие из Петербурга в Гатчину», название которого перефразирует название книги Радищева. Мы часто ездим в Гатчину в гости к нашему другу Носкину, и однажды я придумал изобразить памятники, которые встречаются по пути. Или другая картина — «У барона Штиглица». Мы где-то гуляли, и я увидел во дворе потрясающую лепную панельку. Я моментально решил ее сделать, на следующий день прибежал с фотоаппаратом, но там оказалась такая дурацкая перспектива, что я на картине все переломал по-своему — то есть фактически я ее сохранил, но немного развернул.
Начиная работать, я всегда точно знаю, как будет выглядеть картина. Но мое видение не всегда совпадает с конечным результатом, я это называю «вещь ушла в сторону» и очень раздражаюсь. К счастью, так случается редко. Странная черта — я никогда не делаю никаких набросков, никаких маленьких эскизиков. Другое дело, что я подолгу таскаю замысел в голове, не приступая, но, когда наконец приступаю, я точно знаю, какой у меня будет формат и все остальное. И пишу сразу на холсте.
Я часто бросаю то, что начал малевать. И довольно сложно объяснить, из-за чего это происходит. Например, я хотел сделать что-то технически определенным образом, не таким, как обычно. Но не получается, чужое, не мое, а заставить себя довольно сложно: «Напишу, пожалуй, не своим почерком». Все равно скатываюсь к своему. И я думаю — зачем? Чтобы у меня получилась еще одна облупленная дверь. А у меня этих дверей уже полно.
Или, например, другая история. Много лет, приезжая в Гатчину, маленький городок под Ленинградом, я видел вдалеке башню. Однажды даже рисовал ее, но маленькую, как видел, — вдалеке. И наконец весной, год назад, меня на машине довезли до этой башни. Я ее всю обфотографировал и потерял к ней интерес. Она оказалась не такой, как я ее себе представлял. С большого расстояния она казалась мне какой-то живописной руиной, романтической. Но она оказалась в практически идеальном состоянии, кроме выбоин, оставленных снарядами во время войны. Раньше внутри у нее был гигантский металлический бак для воды.
Есть такие Орловские ключи, от них шел Орловский водовоз. А башня была накопителем, откуда вода шла в Пушкин и так далее. Сам бак, понятное дело, местные растащили на металлолом, обчистили что только можно. Остались только два гигантских железных перекрытия, даже не слишком ржавых, потому что железо очень хорошее. Предполагаю, что башню построили в 1870-1880-е. И вот мы приехали туда с режиссером Гутманом, и я обнаружил, что эта башня очень хорошо сохранилась. Потом, вернувшись домой, я стал ее рисовать обшарпанной, как руину. И почувствовал внутреннюю фальшь. Я, наверное, ее закончу, и все барышни будут ходить вокруг и стонать: «Ай-яй-яй, как хорошо!» Но я-то знаю, что это не так, что в ней нет настроения. В этой башне нет нерва. А если нет нерва, то зачем тогда?
Естественно, к началу 1990-х мы с Наташей были более или менее политически активны. То есть активны в массе. В то время я мог себя назвать ельцинцем — я вообще был всей душой за любого, кто был против коммунистов, но не нынешних коммунистов, а тех, большевиков. Для меня слова «коммунизм» и «социализм» — это синонимы, и я оба этих слова ненавижу. Так что мне неинтересно слушать критику Ельцина, я всегда был за него. Уверен, что все проблемы современного мира возникли от того, что он стал слишком социально направленным. Нас на планете семь миллиардов, при этом одаренных людей, людей с отдачей, что-то производящих головой или руками, страшно мало, остальные только жрут. Так что я, конечно, был в ужасе от того, что начало происходить в августе 1991 года, когда у большевиков появился шанс вернуться.
В 1991-м я ушел на пенсию, хотя с удовольствием остался бы в издательстве. Но с перестройкой многие издательства начали умирать. Издательство «Машиностроение» потеряло государственные заказы и довольно быстро превратилось в страшную жвачку, даже издало несколько порнографических книжек.
К тому же мы собирались ехать за границу, и я, чтобы не отпрашиваться у начальства, просто написал заявление. Но еще раньше, в 1990-м, когда запахло началом чего-то нормального, к нам на Витебский проспект, где мы тогда жили в отвратительной пятиэтажной двухкомнатной хрущевке с потолком на затылке, пришли двое каких-то диссидентствующих людей из Москвы. Они предложили мне съездить в Польшу на десятилетие «Солидарности», но не со своими вещами, а поработать — там что-то сотворить. Нас было пятеро, двоих я знал, они были из Питера, и еще были двое из Москвы, в том числе бард Женя Бачурин — он не только певец, но еще и очень хороший художник.
Это, кстати, была не первая моя зарубежная поездка. Самый первый раз я ездил в 1972-м — около пятнадцати сотрудников Эрмитажа по профсоюзной линии катались в Венгрию и Чехословакию. Та поездка, конечно, была совершеннейшим откровением для всех нас. За четыре года до нашего приезда в Чехословакию были введены советские войска. Так что мы постоянно сталкивались с проявлениями антагонизма, тебе в буквальном смысле могли не продать мороженое, если ты говорил по-русски. Это, конечно, было оскорбительно, но я понимал чехов. Я вообще все понимал про Советскую власть — лагерь мне на многое открыл глаза.