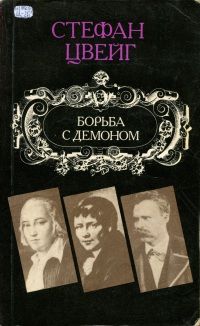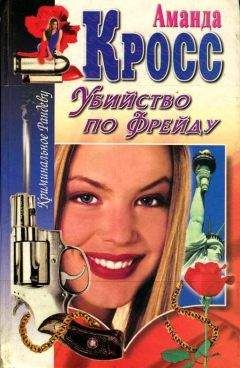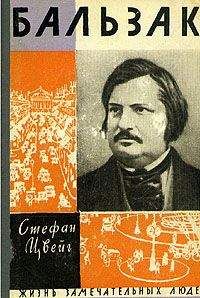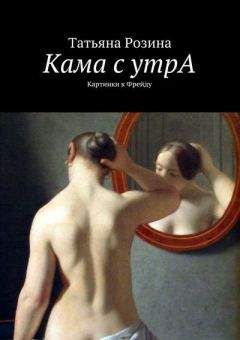Эта вынужденность, связанность, подчиненность воли господствует и в языке его драм: он подобен дыханию взволнованного человека. Язык то искрится, рассыпаясь и растекаясь, то угасает в хрипах, выкриках и молчании. Постоянно тяготеет он к крайностям: порою величественно образный в своем лаконизме, словно вылитый из бронзы в своей застывшей сдержанности, он быстро расплавляется в пламени чувств. Часто в нем попадаются отдельные сгустки, насыщенные кровью, как напряженные мускулы, но часто фразу, словно бомба, разрывает пробившееся чувство. Пока язык обуздан, он дышат мужеством и силой, но, как только чувство обращается в страсть, он словно ускользает из–под власти Клейста, растворяя в образах все его грезы. Клейсту никогда не удается вполне овладеть своей речью; он безжалостно искривляет, изгибает, разрывает, изламывает фразы, чтобы сделать их устойчивыми, он (вечный преувеличитель) часто растягивает их настолько, что не связать концов; но над одним простирается все же его власть и терпение: никогда не сливаются у него стихи в одну общую мелодию, все брызжет, искрится и кипит страстями. Как его героев, бессильных сдержать свою чрезмерность, начинает лихорадить, так и его в конце концов охватывает бессилие обуздать слова: когда Клейст дает себе волю (а в творчестве он обнажает самые глубинные слои своего существа), он одержим и неудержим в своей чрезмерности. Поэтому ему не удается ни одно стихотворение (кроме магической литании смерти); плотины и водопады создают не плавное, ровное течение, а только пороги и бурные водовороты; его стих и дыхание равно неспокойны и немелодичны. Только смерть вдохновляет его на музыку, на последнее излияние.
Гонитель и гонимый, охотник и затравленный зверь — таким является нам Клейст среди своих образов, и то, что делает его драмы особенно драматичными, заключается не в концепции, не в замысле, не в эпизодическом событии, а в необычайном, окутанном тучами горизонте, величественно расширяющем и возвышающем их до героизма. Клейсту присуще врожденно трагическое восприятие мира: в своих трагедиях он ощущает и оформляет не материю отдельного сюжета, а мировую материю. Возложенное на него бремя рока он в неистовом преувеличении передает другим, и трещина, зияющая в груди, каждого его героя, является для него частью громадной расселины, которая рассекает вселенную, превращая ее в сплошную неисцелимую рану, в вечное страдание. Ницше глубоко проник в истину, заметив о Клейсте: «Он часто говорит «о хрупкости мира», ибо его привлекает «неисцелимость природы», — мир для него поистине неисцелим, несоединим, весь он печальная неразрешенность и неразрешимость».
Клейст достигает поэтому подлинно трагической ситуации: лишь тот, кто непрестанно
ощущает мир, как улику — не только как сюжет, по и как обвинение, — может выступить в драме — роль за ролью, речь за речью — обвинителем, судьей, должником и кредитором, давая каждому возможность защищать свои права от чудовищной несправедливости природы, создавшей человека раздробленным, двойственным, вечно неудовлетворенным. Такой взгляд на мир невозможен при ясном взоре. Гёте иронически написал в альбом другому пессимисту, Артуру Шопенгауэру:
В себе найти ты хочешь ценность.
Уверуй прежде в ценность мира.
Никогда трагический дух Клейста не мог, подобно гению Гёте, «уверовать в ценность мира», и ему не было суждено «найти ценность в себе». Об его собственную неудовлетворенность космосом разбиваются все его творения: трагические дети истинного трагика, они вечно хотят превзойти себя и головой пробить непоколебимую стену судьбы. Чуждая непримиримости мудрость Гёте, удовлетворенно принимавшая жизнь, невольно сообщалась его образам, его проблемам, и потому они не достигали античного величия, даже облачаясь в тунику и становясь на котурны. Даже трагически задуманные образы — Фауст и Тассо — находят утешение и успокоение, «спасение» от последних глубин своего «я», от священной гибели. Он знал, великий мудрец, роковую силу истинной трагедии («это погубило бы меня», — признается он, говоря о замысле настоящей трагедии); своим орлиным взором он видел всю глубину скрытой в нем самом опасности, но у него было достаточно мудрой осторожности, чтобы не поддаться ей. Клейст же, напротив, был героичен без мудрости, он был мужествен и одержим волей к постижению последних глубин; сладострастно он гнал свои грезы и образы навстречу последним возможностям, зная, что они повлекут его за собой к святому року. Мир представлялся ему трагедией, и он творил трагедии из своего мира, — лучшей и самой возвышенной из них была его жизнь.
Радостным я могу быть только наедине
с собой, потому что лишь тогда могу быть
вполне правдивым.
Из письма.
Клейст мало знал действительный мир, но много знал о сущности мира. Оп пребывал в отчуждении и вражде к своей среде и эпохе и так же не в состоянии был понимать холодность окружающих его людей и связывающие их условности, как те — его упрямую замкнутость, его фанатические преувеличения. Его психология была бессильна, быть может, даже слепа по отношению к общему типу, ко всем обычным явлениям; только там, где он заставляет себя преувеличивать чувства, переносить людей в высшие измерения, пробуждается бдительность его взора. Только страстью, избыточностью внутреннего мира он связан с миром внешним; только там, где человеческая природа становится демонической, гибельной, и непостижимой, исчезает его отчужденность: словно ночная птица, он видит ясно не при свете, а лишь в сумерках чувств — во мраке сердца. Кажется, только самое затаенное, огнедышащее в человеческой природе родственно его истинной, пламенной сфере. Там, в вулканическом извержении, в хаосе первобытных аффектов, царит и становится ясновидящим его страстный талант; поверхность жизни, холодная твердая кора повседневного существования, плоская форма бытия не привлекают его взора. Он был слишком нетерпелив, чтобы стать холодным наблюдателем, чтобы подолгу экспериментировать над реальностью; жестоким тропическим зноем он ускоряет рост событий: только пламенный, только страстный человек оказывается для него проблемой. В конце концов он изображал не людей; его демон сквозь земную оболочку познавал в них своих братьев — демонов искусства и природы.
Поэтому все его герои так лишены равновесия: частью своего существа они пребывают вне сферы обыденной жизни, каждый из них — гиперболист своей страсти. Все эти неукротимые дети его чрезмерной фантазии, как сказал Гёте о «Пентесилее», «принадлежат к своеобразной семье»; им всем присущи его характерные черты: непримиримость, резкость, своеволие, прямолинейность, бурное упрямство и непреклонность; все они отмечены печатью Каина: они должны губить или погибать. Все они обладают странной смесью пыла и холодности, избытка и недостатка, страсти и стыда, безудержности и сдержанности, переменчивости и переливчатости — мощным зарядом атмосферного электричества в нервах. Они смущают даже тех, кто хотел бы их полюбить (как смущал сам Клейст своих друзей): в их глазах сверкает нездешне–зловещий огонь, внушающий страх даже самому непредубежденному человеку; поэтому их героизму не суждено было стать популярным, «национальным», хрестоматийным героизмом. Даже в Кетхен, на один только шаг отстоящей от банальности, где она бы слилась с народными образами Гретхен и Луизы, — даже в ее душе кроется болезненная черта, непонятная простому уму, — чрезмерность преданности; и в Арминии, национальном герое, в нем также есть избыток политичности, лицемерной ловкости; в нем слишком много от Талейрана, чтобы он мог стать патриотической статуей.