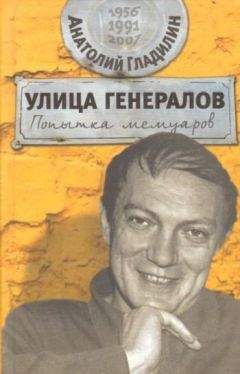Когда я уезжал в эмиграцию, в 76-м году, я не думал, что осмелятся тронуть сахаровское окружение — настолько, казалось, люди были защищены мировой славой Сахарова. Но отправили в ссылку и самого Андрея Дмитриевича. Тогда мы по всем зарубежным «голосам» кричали, что его убивают, и это, поверьте мне, не было гиперболой. В 1989 году я увидел Сахарова в Париже, на торжественном заседании во дворце Шайо, посвященном юбилею принятия Декларации прав человека. И я поразился, как изменился Сахаров, как он сдал физически! Действительно, голодовки, больницы, издевательства, травля — разве это проходит бесследно?! В Париже я успел с ним только поздороваться, к нему неудобно было приближаться — десятки фото- и телекорреспондентов расстреливали его в упор «блицами». Будучи в Москве, я позвонил ему и услышал знакомый голос. «А это Толя Гладилин, — сказал Сахаров Люсе, — и звонит явно из Москвы. А мы только что с самолета». Я спросил, как его здоровье. Андрей Дмитриевич весело хмыкнул: «А вот о здоровье говорить не будем, но считайте, что всё нормально». Мы условились, что обязательно скоро увидимся — или в Париже, или в Москве. Не пришлось…
Осенью 1974 года я сидел в Доме творчества «Переделкино» и писал откровенно антисоветскую повесть. Сижу, значит, пишу, вдруг без стука распахивается дверь. На пороге — писатель Женя Добровольский, мрачно на меня смотрит и вопрошает: «Пишешь, значит? И думаешь так проработать до вечера?» Вопрос в данном контексте звучал двусмысленно, однако Женя свой парень. Женя выдержал паузу и залпом выстрелил: «Гена Шпаликов повесился…»
Я, естественно, отбросил все бумаги и побежал за Добровольским к той старой даче, где снимал комнату Гена Шпаликов. У крыльца толпились писатели, отдыхающие в Доме творчества, зеваки, шныряли взад-вперед представители администрации. Пока у крыльца обсуждали, что, как и почему, а в комнате Гены Шпаликова врачи заполняли необходимые формуляры, прогрессивная писательская общественность быстренько сообразила и проявила инициативу. А именно: скинулись, кто сколько мог, и послали делегацию в ближайший магазин. И из ближайшего магазина приволокли водку, сырки, огурчики, вареную колбаску — словом, все необходимое для того, чтоб оставшийся вечер в теплой товарищеской обстановке посвятить памяти покойного.
Замечательный человек был Гена Шпаликов! Какие песни сочинял, какие сценарии! Что-то тут неладно, товарищи. Шпаликов только что заключил договор с «Мосфильмом». Вот если б не заключил, тогда бы мы поняли, почему повесился! А просто довела человека Софья Власьевна, то есть советская власть, неужели непонятно?
Словом, все было готово, и все были готовы. Страстные, проникновенные речи уже рвались из груди. Мешало лишь одно обстоятельство. А именно то, что осталось от дорогого и, как теперь выяснилось, всеми любимого человека. Точнее, его труп. Никто не знал, что с ним делать. Тело Гены Шпаликова лежало на полу литфондовского «рафика». Врачи сказали, что это не их забота — доставлять покойников в морг, — и уехали. Администрация Дома творчества сказала, что ее рабочее время кончилось и с нее достаточно того, что она предоставила «рафик». Шофер категорически отказывался ехать один в морг. Дескать, милиция остановит, у меня труп в кузове — что я им скажу? Часть прогрессивной писательской общественности опускала очи долу, бормоча, что вообще-то администрация Литфонда манкирует своими обязанностями. А другая часть прогрессивной писательской общественности отводила глаза в сторону, видимо, любуясь осенними красотами переделкинского леса.
Гриша Горин сел в кузов «рафика». Писательская общественность разом оживилась: «Ну, Горину-то привычно, он бывший врач „скорой помощи“». Я посмотрел на две фигуры в кузове — одну сидящую, другую лежащую — и сказал: «Гриша, я тоже с тобой поеду. Вдвоем будет веселее».
Ей-богу, так и сказал: «веселее».
Часа два мы пробирались через все московские пробки к моргу на задворках проспекта Мира. В морге на стене красовался плакат: «Сделаем Москву образцовым социалистическим городом!» Я потянулся к носилкам и невольно отдернул руку: носилки были в чем-то темном и липком.
«А у нас все такие», — мстительно улыбаясь, заметила служащая морга.
На носилках мы с Гришей перенесли Гену Шпаликова внутрь помещения и отправились в обратный путь. И всю дорогу Горин мне рассказывал, что, наверное, у него судьба такая — сопровождать покойников, ибо когда он, Горин, поблизости, то все почему-то не звонят в «скорую помощь», а бегут к нему; вон, когда Борис Балтер умер, жена кричала: «Гриша, спаси!», а что он мог сделать, Балтер был уже мертв.
Признаться, странно было узнавать такие подробности из жизни первого юмориста страны.
Литература как школа. Старшеклассники снисходительно взирают на возню первоклашек. Арканов и Горин, ребята моего поколения, один — чуть старше, другой — младше, казались мне в шестидесятые годы зеленой молодежью, тем более что публиковались они тогда в основном на 16-й полосе «Литгазеты», а кто ж относится всерьез к советским сатирикам? Позже, когда мы сравнялись в этой дурацкой табели о рангах и подружились, Горин очень смешно изображал меня в роли «старшеклассника»: «Появляется Толяныч (он меня называл Толянычем, я его — Гырой), ни на кого не смотрит, спрашивает только: „Аксенов пришел?“ — и прямиком направляется в ресторан». М-да, по мне — всё не так, и обычно я прямиком направлялся к столу пинг-понга, а Гыра играл в соседней комнате на бильярде. Но опыт показывает, что сатирикам виднее…
Кстати, замечательное свойство человеческой памяти: выделять какие-то эпизоды, связанные с другим человеком, и считать, что они так же важны для его биографии. Я, например, хорошо помню, как мы с Гориным и с Женей, женой Арканова, ехали три дня в Ялту на «Москвиче», взятом мною напрокат. Помню, как уговорил Марину Влади, по которой тогда вся Москва сходила с ума, прийти в настоящий русский дом и отведать настоящей русской еды и привел Марину в гости к Григорию Израилевичу Горину. Помню, как отмечал свой день рождения в 1968 году, когда я работал старшим редактором сатирического киножурнала «Фитиль» и у меня дома, естественно, собрался весь цвет советской сатиры. Цвет угрюмо сидел за столом, и каждый слушал по своему транзистору — кто «Свободу», кто — «Голос Америки», кто — Би-би-си, кто — «Немецкую волну». Иногда Гыра спохватывался и говорил: «Ребята, день рождения Толяныча, давайте выпьем за него». Ребята вымученно улыбались, выпивали и вместо закуски опять прикладывались к транзисторам, слушая репортаж «голосов» о том, как советские танки в ответ на просьбу чехословацких трудящихся вошли в Прагу.