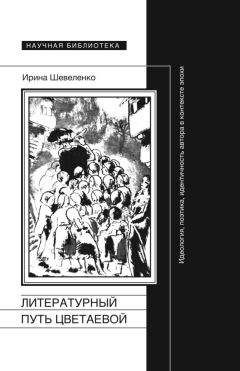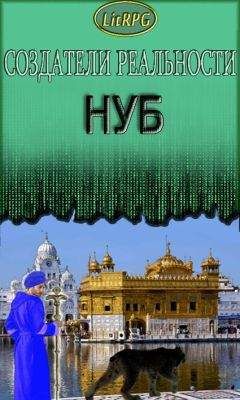И Царь-Девица, и Царевич – это герои, «выпавшие» из своего пола: каждый из них обладает некой уникальной сексуальной идентичностью, которая частично напоминает андрогинность, частично – асексуальность. Первое более относится к Царь-Девице213, второе – к Царевичу. Царь-Девица воплощает в поэме тему Эроса, сначала «нисходящего» на землю в виде пола, а затем возвращающегося в свое исконное состояние. Царевич же воплощает тему творчества. Есть в поэме и третья важная героиня, препятствующая воссоединению первых двух. Это Мачеха, влюбленная в своего пасынка Царевича. В ее образе воплощается тема пола как такового.
Скрытый сюжет, который обнаруживается таким образом в «Царь-Девице», повествует о попытке воссоединения любви и творчества через победу над полом214. И оказывается, что эта победа и это воссоединение на земле невозможны. Стремление к воссоединению и для Царь-Девицы и для Царевича становится катализатором их прозрения своей истинной родины – иного мира. Этот мир, куда отправляется Царь-Девица и куда на поиски ее бросается «не заслуживший земли» Царевич, предстает истинной родиной Эроса и творчества, где они существуют в своей исконной нераздельности.
Если в романтических пьесах Цветаевой 1918–1919 годов, как справедливо отмечает Р. Войтехович, явным или скрытым сюжетным подтекстом часто оказывается история Эроса (Амура) и Психеи215, то «Царь-Девица» знаменует отход Цветаевой от этого сюжета. При всей символической емкости истории Амура и Психеи (а Цветаева, как показано Р. Войтеховичем, опирается не только на античную версию этой истории, но и на ее новейшие популярные обработки), в ней нет места творчеству как самостоятельной силе, самостоятельному «действующему лицу». Соответственно, в ней невозможно воплотить тему преодоления или преображения пола в творческом акте, «восхождения» от пола к Эросу (в волошинском понимании этих слов) через раскрепощение творческой способности. В «Царь-Девице» эта тема раскрывается пока не самым удачным образом – из‐за перегруженности сюжета поэмы и вычурности ее стилистики. Через полгода Цветаева учтет этот свой опыт, работая над поэмой «На красном коне».
Творческое десятилетие заканчивается для Цветаевой возвратом к некоторым важным символистским моделям в представлениях о мире, поэте, человеческой судьбе и смысле любви – тем моделям, от которых в предшествующие годы она казалось бы уходила. В этом возврате, как покажет время, будет залог необычайной, на фоне ее поколения, поэтической витальности Цветаевой в 1920‐е годы. Творческие находки 1910‐х годов отступят, отойдут на второй план. Не когда‐то «жаждавшее жить» тело, существовавшее в истории, а творчество, освободившее авторское «я» от пут истории; не стихи, запечатлевающие жизнь, а стихи, уводящие в иную реальность, – этой метаморфозой начнется для Цветаевой новое десятилетие. «Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь! / С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!» (СП, 152), – таким уже будет видеться ей собственный облик в стихотворении декабря 1920 года, завершающем «Версты» и служащем прологом к поэтическому «иному миру» Цветаевой 1920‐х годов.
Революция, таким образом, оказалась в судьбе Цветаевой и катализатором ее профессионального самоопределения, и катализатором самораскрытия, лишившим ее чувства единства с миром и обратившим всю творческую энергию на созидание иной реальности. Эпический сюжет «Царь-Девицы» нуждался теперь в более камерных уточнениях. Частично их предлагала уже лирика второй половины 1920 года, но именно сборник «Ремесло», включивший стихи 1921–1922 годов, развил линию, начатую поэмой, наиболее полно. «Пожалуй, что только вот с этих двух книг начинается серьезная история М. И. Цветаевой как поэта»216, – симптоматично объединил «Царь-Девицу» и «Ремесло» в своем отзыве Сергей Боборов.
«Я очень люблю одну сказку: про коня и девушку с русыми кудрями, к<отор>ая убежала от своих любимых детей: Ирины Эфрон217 и Ариадны Эфрон» (ЗК2, 25), – писала Цветаевой в конце 1919 года из детского приюта ее семилетняя дочь Аля. Сказка, по всей вероятности, сочинена была и рассказывалась Але самой Цветаевой. В начале 1921 года эту сказку Цветаева превратила в поэму «На красном коне», которую в ретроспективе можно считать прологом к «Ремеслу». Эта поэма прежде всего констатировала новое понимание автором содержания собственной биографии. Если бы не эпистолярные свидетельства, невозможно было бы установить связь между поэмой и сердечным переживанием, к которому сама Цветаева ее возводила, – недолгим, но бурным увлечением Евгением Ланном на исходе 1920 года. Значительно позже, в 1928 году, Цветаева будет пояснять Н. Гронскому неизбежность разрыва лирики с биографической эмпирикой в творческом опыте поэта: «Когда мне было 16–18 л. я тоже стихи вела от человека (посвящения), постепенно связь между данным и вещью ослабевала, видоизменялась. Пока, наконец, в Переулочках – не разорвалась»218. На месте названной здесь поэмы «Переулочки» (вошедшей в «Ремесло») вполне могла бы стоять и поэма «На красном коне» – важнейшая веха в цветаевском опыте размежевания текста с «вдохновившей» его жизнью219.
Размежевание это оказалось по сути темой поэмы. Видимо, понимая это, Цветаева сняла с поэмы посвящение Ланну, заменив его, казалось бы, неожиданным – Анне Ахматовой. Между тем, выбор адресата посвящения вполне вероятно был связан с перечитыванием ахматовской поэмы «У самого моря» (1914) в начале 1921 года220. При всем различии обе поэмы – рассказы об истоках творчества, об открытии своей судьбы как судьбы поэта, и в обеих это открытие соотнесено с эросом и смертью.
«Девочка – без – куклы», «Девушка – без – друга», «Женщина – без – чрева» – таковы ступени «отпадения» от пола, через которые проходит героиня поэмы у Цветаевой. Отречения от куклы, от любимого, от ребенка (два последних – во сне) происходят по требованию некоего Всадника-Гения, и каждое из них сопровождается его призывом: «Освободи Любовь!» Означает этот призыв каждый раз одно: освободи любовь от пола (земного чувства), дабы она стала Эросом. Только такая «освобожденная Любовь» открывает путь к творчеству. Отсюда важная фаза в развитии сюжета поэмы – преследование героиней, «отпавшей» от пола, Всадника-Гения (персонифицирующего или являющегося агентом именно Эроса221 – как творческого начала) и ее битва с ним. Это преследование – начало «восхождения» к Эросу, а битва – символический акт инициации героини, вступающей в иную жизнь: творческую222.