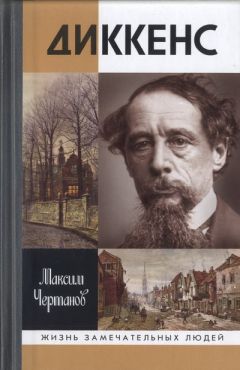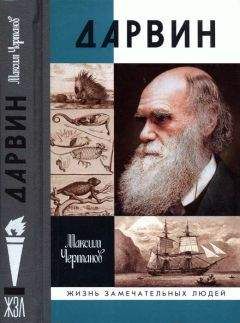Британские газеты опубликовали письмо Диккенса о его попытках добиться соблюдения международного авторского права в Штатах; сам он очень быстро, используя как черновик свои же письма Форстеру и другим друзьям, писал «Американские заметки». В Америке ему казалось, что «либеральная монархия в тысячу раз лучше», но дома все оказалось по-прежнему нехорошо, англичане потерпели позорную неудачу в Афганистане, шли «голодные сороковые», период спада и обнищания — надо что-то делать… Он узнал, что лондонская газета «Курьер» обанкротилась, и предложил леди Холланд купить помещение и оборудование и учредить либеральную газету, но время для издателей было неблагоприятное, и затею пришлось отложить.
25 июля он опубликовал в «Морнинг кроникл» горячее письмо в поддержку законопроекта лорда Эшли о запрете на работу в шахтах для женщин и детей до тринадцати лет, на август и сентябрь увез семью в Бродстерс, там подобрал на берегу глухонемого мальчика, неизвестно откуда взявшегося (какой сюжет для романа! — но Диккенс его почему-то не использует), поместил в приходскую больницу — к сожалению, неизвестно, чем кончилась история этого ребенка, но, зная Диккенса, можно предположить, что мальчик был пристроен. 5 октября «с ответным визитом» приехал Лонгфелло, пробыл две недели, в свою очередь осмотрел под руководством Диккенса тюрьмы и сумасшедшие дома и был представлен графам и знаменитостям. 18-го вышли «Американские заметки» — дома отзывы были вялые, читателям казалось, что автор маловато поругал американцев и чересчур много рассказывал про тюрьмы и прочие скучные вещи. Но распродались «Заметки» неплохо. В США книжку, естественно, приняли в штыки (хотя и продали почти 100 тысяч экземпляров); «Нью-Йорк геральд», когда-то так тепло его приветствовавшая, назвала «Американские заметки» плодом «самого грубого, вульгарного, нахального и поверхностного ума».
Писательской машине нельзя останавливаться: еще не закончив «Заметки», Диккенс придумал завязку новой истории и в конце октября поехал с Форстером и Маклизом в Корнуолл, где должно было происходить действие следующего романа. В ноябре навещал родителей, 20-го посетил проповедь преподобного Эдварда Тэгарта в унитарианской церкви на Литл-Портленд-стрит и купил там места для всей семьи. Уже к декабрю он закончил первый ежемесячный выпуск романа «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», посвятив его Анджеле Бердетт-Куттс (публикация завершится в июле 1844 года).
Начал он бойко (по быстроте работы, но не по результату — занудством первые главы могут потягаться лишь с началом «Пиквика»), но дальше книга все время шла тяжело — он не до конца продумал сюжет, да и замысел был очень абстрактный и сложный. Это история одной алчной семьи, бьющейся за наследство, а по сути — роман о лицемерии во всех его видах.
«— Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, — произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, — даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице…
— С ветчиной, — подсказала негромко Чарити.
— Да, с ветчиной, — подхватил мистер Пексниф, — даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще».
«Когда мистер Пексниф и обе молодые особы сели в дилижанс на перекрестке, он оказался совсем пустым внутри, что было весьма утешительно, в особенности потому, что снаружи все было полно и пассажиры, видимо, порядком промерзли. Ибо, как справедливо заметил мистер Пексниф своим дочерям, зарыв ноги поглубже в солому, закутавшись до самого подбородка и подняв оба окна, в холодную погоду всегда приятно бывает знать, что многим другим людям далеко не так тепло, как нам самим. И это, сказал он, вполне естественно и как нельзя более разумно не только в отношении дилижансов, но также и многих других общественных установлений.
— Ибо, — заметил он, — если бы все были сыты и тепло одеты, мы лишились бы удовольствия восхищаться той стойкостью, с которой иные сословия переносят голод и холод. А если бы нам жилось не лучше, чем всем прочим, что сталось бы с нашим чувством благодарности, которое, — со слезами на глазах произнес мистер Пексниф, показывая кулак нищему, собиравшемуся прицепиться сзади кареты, — есть одно из самых святых чувств нашей низменной природы».
До сих пор у Диккенса люди «из народа», если не считать воров в «Твисте», были добрыми и милыми — теперь он написал «простую» женщину, лицемерную ничуть не меньше Пекснифа, — больничную сиделку.
«— Ах, — сказала миссис Гэмп, отходя на несколько шагов от кровати, — и хорош будет покойничек!
После этого она развязала свой узел, зажгла свечу от огнива на комоде, налила воды в маленький чайник, намереваясь подкреплять свои силы чаем во время ночного дежурства; разве та с этой же человеколюбивой целью то, что у нее называлось „маленький огонек“, а также выдвинула и накрыла небольшой чайный столик, чтобы уж ни в чем не иметь недостатка и расположиться с полным удобством. На эти приготовления ушло столько времени, что пора было подумать и об ужине; поэтому она позвонила и заказала ужин.
— Я, моя милая, — расслабленным голосом говорила миссис Гэмп младшей горничной, — съела бы, пожалуй, маленький кусочек маринованной лососины с хорошенькой веточкой укропа, чуть-чуть посыпанный белым перцем. Хлеба мне подайте самого мягкого, моя милая, а к нему немножко свежего масла и кусочек сыра. В случае ежели в доме найдется огурец, то, будьте так любезны, принесите мне огурец, я до них охотница, да и у больного в комнате их очень полезно держать. Ежели у вас тут есть брайтонский крепкий эль, милая, то на ночь я только его и пью: доктора советуют, чтобы сон разгоняло. А когда я вам позвоню во второй раз, то вы, милая, ни под каким видом не приносите джина с горячей водой больше чем на шиллинг; это уж моя всегдашняя порция, больше у меня душа не принимает!
<…>
— Ах! — вздохнула миссис Гэмп, впадая в раздумье над порцией горячего напитка стоимостью в шиллинг, — как это приятно, когда ты всем доволен, — кругом-то ведь юдоль! Как это приятно ухаживать за больными, лишь бы им было хорошо, а о себе даже и не думать, пока ты в силах оказать услугу! Ничего лучше этого огурца просто быть не может! Никогда в жизни такого не едала.
Она рассуждала в том же духе, пока стакан не опустел, после чего дала пациенту капли самым простым способом, а именно сдавила ему горло так, что он захрипел и раскрыл рот, и в ту же минуту влила туда лекарство».
Действие, начавшись в деревне, переносится в столицу, и тут мы опять находим у Диккенса новое — он все время учится, он растет. В «Твисте» новым были причудливые портреты, в «Лавке древностей» — околдовывающая атмосфера; в «Чезлвите» он проявил себя как мастер несравненных, фантастических городских пейзажей. Простите за слишком длинную цитату — мы и так выкинули из нее половину, наступив себе на горло, настолько она великолепна: