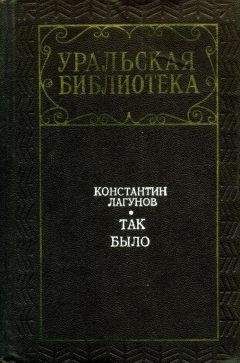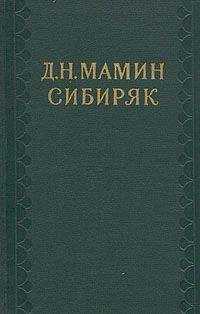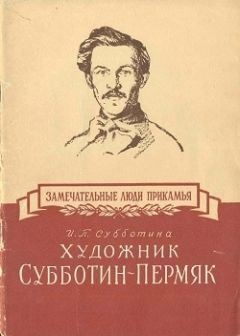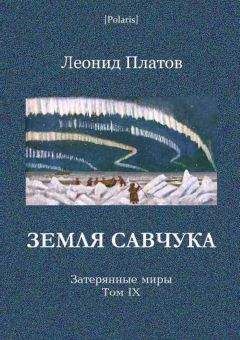— Здорово, директор! — крикнул Рыбаков.
— Здравствуйте, Василий Иванович, — откликнулся надтреснутый голос из-под трактора.
— Что стряслось?
— Прокладку пробивает. Уже кончаем.
— Ну, кончайте. — Рыбаков отошел в сторонку с Трофимом Максимовичем. — Поджимает весна?
Сазонов наморщил лоб, дернул себя за мочку оттопыренного уха.
— Еле поспеваем. Еще гектаров сто двадцать осталось.
— Денек сегодня — загляденье. — Василий Иванович снял кепку, кинул ее в ходок. Легко нагнулся, зачерпнул горсть влажной земли, помял ее в кулаке, поднес к носу. — Чуешь, как земные соки бродят, аж хмелем в голову ударяет. Созрела землица. Только успевай обсеменяй. Когда кончите?
— На неделе.
— Хорошо.
Разговаривая, они дошли до межи. Рыбаков носком сапога разворошил ровную зеленую щетину молодой травы, улыбнулся.
— Ох и трава нынче, Максимыч. Прет, как на опаре. Добрые будут покосы. Не прозеваешь — с кормами зазимуешь. Хороша весна.
— Добра, — согласился Сазонов.
— Ты знаешь Панину делянку? За оврагом, на границе с вашими землями?
— Знаю, — не сразу ответил Трофим Максимович и испытующе посмотрел на собеседника.
— Вот и хорошо. Там почти девяносто гектаров отменной земли. В прошлом году ее не обрабатывали, пустили под залежь. И нынче тоже. Я вчера ее смотрел. Уж молодые деревца проклюнулись. Еще год — и пропала земля, проглотит ее лес.
Трофим Максимович молчал. Он уже понял, куда клонит секретарь райкома, и сейчас думал над тем, как бы незаметно уйти от этого разговора.
— Ты почему молчишь? — насторожился Рыбаков.
— А что мне говорить?
— Пропадает земля. Разве тебе это безразлично?
— Не безразлично. Но при чем тут наш колхоз?
— Хитришь?
— Что нам хитрить? Они хозяйство развалили, бабы семечками торгуют, огороды свои холят, а нам…
— А вам на это начхать? Чужая беда сердце не сосет. Так, что ли? Молчишь? Так я тебе скажу. Бери эту землю. За лето обработаете ее под озимь. Мы узаконим это решением райисполкома.
— Куда нам еще девяносто гектаров? — Трофим Максимович испуганно попятился. — Мы и свою-то землю еле-еле годуем. На быках да на коровах.
— Значит, эта своя, а та дядина. За эту мы воевали, а за ту кто? Я вот «Коммунизму» предложил взять шестьдесят гектаров от Жданова. Взяли. И слова не сказали. Мы не имеем права отдавать землю пустошам. Это все равно что сдать врагу. Ты ведь хлебороб, Трофим Максимович, в твоих жилах чернозем. Неужто и впрямь тебе все едино — жива та земля или нет? Вся сила, вся красота наша — в земле. За то и зовем ее матерью. — Помолчал, задумчиво покачал головой. — Я вот свою мать почти не помню. Мне годов семь было, когда она умерла. И отца вскоре колчаковцы убили. Потаскался я по людям. Всего досыта хлебнул — и горького, и соленого. И к голоду, и к боли привык. А вот к тому, что матери нет, не мог привыкнуть. Она мне каждую ночь снилась. Теперь уж сам давно отец, а стрясется какая беда, сразу вспоминаю мать, завидую тем, у кого она есть. Какое же это счастье прийти домой и положить голову на материнские колени. Помню, ушибусь или ребята поколотят, от обиды и боли в голос реву. Никакого удержу. А мать погладит по голове: «Полно, Вася, ты же мужик», все как рукой снимет. Вот она — мать. А ты…
— Да что я, — обиделся Трофим Максимович. — У меня за них, чертей, вся душа изболелась. Только ведь не осилить нам. Сев кончим — покос надо начинать. Вы же знаете…
— Знаю. Вспахать Бобылев поможет. С ним я сейчас договорюсь. А чтоб тебе не колебаться, не насиловать себя, съезди сегодня же на Панину поляну. Погляди, как ее бурьян да чертополох подмяли. Поглядишь — спать не будешь, пока не перепашешь.
— Посмотрю, Василь Иваныч.
В райцентр Рыбаков приехал вечером. Сдав жеребца Лукьянычу, пошел домой.
4.
— Совсем замотался, Вася. Почернел, ровно цыган, — говорила жена, накрывая на стол. — Нос торчит, как у покойника.
— Ничего, — не поднимая глаз, отозвался он. — Отсеемся, тогда и отдохнем.
— Уж ты отдохнешь, — с ласковым упреком воскликнула она. — Я тебя знаю. В мирное-то время никогда выходных не было, а теперь… Ешь, ешь, совсем остынет.
Василий Иванович с преувеличенным аппетитом принялся хлебать щи.
А Варя хлопотала возле него: нарезала еще хлеба, налила молока в стакан, положила в щи ложку сметаны и все говорила:
— Тянешь день и ночь, день и ночь. Думаешь, износу не будет. Машина и та ломается, а ты ведь хоть и секретарь райкома, а все равно человек. У тебя же не мотор внутри, а обыкновенное сердце. Когда-нибудь оно не выдержит, и все. Тебе только тридцать четыре, а лоб ве-е-сь в морщинах.
— Что ты надо мной причитаешь? — рассердился он.
Она умолкла, а ему стало неловко за свой окрик, и, чтобы как-то загладить вину, он мягко спросил:
— Где Юрка?
— У Сорокиных. Скоро придет. Ляжешь отдыхать или пойдешь в райком?
— Схожу. Три дня не был. Надо хоть почту разобрать, посмотреть материалы к бюро. Скоро вернусь.
— Выпей еще стаканчик молока.
— Некуда больше.
Поднялся. Одернул гимнастерку.
— Пошел.
Обычный, ничего не значащий разговор с женой, ее заботливость и нежность сегодня тяготили и волновали Василия Ивановича, и весь путь до райкома он думал только о Варе. Всю жизнь она посвятила ему и сыну. Ради них отказалась от любимой работы, от друзей, от развлечений. Какие уж развлечения, если он приходит долой только затем, чтобы поесть и поспать… А он за эти дни и не вспомнил о ней. А дальше… Что же будет дальше?
А Варя, оставшись одна, не спеша убрала со стола, вымыла посуду, подмела пол. Достала из русской печки ведерный чугун горячей дождевой воды и принялась мыть голову. У нее были на редкость красивые волосы. Золотистые, густые и длинные, до самых бедер. Вася всегда хвалил ее волосы, и она усердно ухаживала за ними. Она мыла их не спеша, тщательно прополаскивала и отжимала. Расчесав мокрые волосы гребнем, не утерпела, подошла к зеркалу. Долго рассматривала отраженное зеркалом лицо молодой здоровой женщины. Круглые щеки и острый маленький нос усыпаны веснушками. Втайне от мужа Варя вела беспощадную войну с этими веснушками. Мазалась сметаной, прикладывала целебные коренья и травы, применяла и иные домашние средства. Иногда лицо облупливалось, и веснушки исчезали. Но едва молодая кожица затвердевала и становилась белой, как на ней снова появлялись веснушки. «Так, видно, и умру с ними», — подумала Варя, поглаживая пальцами упругие щеки. Послюнявив палец, провела им по широким прямым бровям, помусолила ресницы. Нет, что там ни говори, а она выглядит куда как добро для своих тридцати лет. Варя довольно улыбнулась и отошла от зеркала. С книгой в руках примостилась в уголке дивана. Отыскала нужную страницу, склонилась над ней и через минуту уже забыла обо всем.