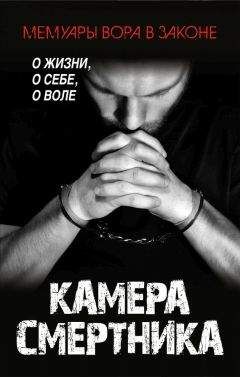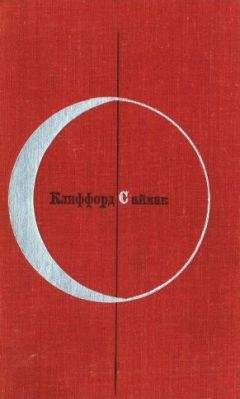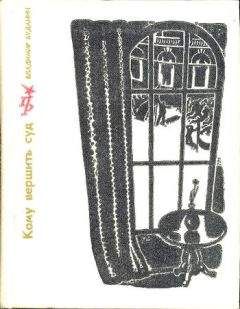Постепенно «добрые» люди убедили меня, что сейчас медицина на высоте, что спасают даже безнадежных рожениц, трехмесячных недоношенных детей, что современная медицина и аппаратура творят чудеса. И самое главное, что в смерти моего ребенка, как и в том, что Ольга теперь не сможет иметь детей, виноват только врач. И я стал вспоминать это дородное лицо в очках в дорогой оправе, интонации, с которыми она мне рассказывала о смерти ребенка. Мне все больше и больше казалось, что говорила она это нарочито небрежно, как будто хотела побыстрее отделаться от назойливого мужчины. И даже казалось мне, что я улавливал нотки вины в ее голосе, что именно это мелькало в ее глазах.
Постарайтесь понять меня; ведь в тот момент, когда мне сказали, что у меня нет ребенка и никогда не будет, рухнуло все. Даже собственная жизнь для меня тогда не представляла ценности. Ценным был только мирок моего дома, моя мечта. А ее убили! Искалечили жену, а мечту убили! И это слово стало преследовать меня. Снова начались ночные кошмары. Я смотрел на людей, на город – и думал о том, что бандиты, чувствующие себя безнаказанными, ходят по улицам и калечат людям жизнь. Но это бандиты, уголовники. А ведь есть люди, которые, как оказалось, страшнее бандитов…
И я представил, сколько еще детей не родится, сколько еще женщин будет искалечено из-за этой врачихи. И я был не одинок в этом мнении – меня старательно убеждали в этом советчики, охаивая все и всех вокруг. Через месяц чувство ненависти достигло такого накала, что я уже не мог ни о чем думать, кроме того, как наказать ее, очистить землю от этой мрази. Во имя моего ребенка, во имя тех, кто еще может родиться!
И боже упаси еще кому-то испытать то, что испытал я, пройти через то, через что прошел я. А значит, я должен это сделать! Пусть лично для меня уже ничего не вернешь, пусть моя жизнь искалечена, но есть другие люди, невинные, чистые, светлые. Их-то зачем коснется вся эта грязь, вся мерзость нашей жизни? Больше никому она зла не принесет! Это даже не месть, хотя я ее ненавижу всем своим естеством. Это не кара, это больше и важнее – это защита невинных людей.
И я пошел. Всю дорогу, весь путь, что проделал пешком, я думал о своем решении. Но в этот день врачиха так и не появилась. Может, график дежурств у них изменился, может, какая другая причина была. И я стал приходить к роддому каждое утро к девяти часам. И ждал до двух часов дня, надеясь, что вот наконец было ее дежурство, что вот она задержалась у начальства, но сейчас выйдет. Чем дольше я ждал, тем больше крепла моя убежденность в моей правоте. То, что я не мог ее дождаться, воспринималось почти что как ее попытка избежать смерти.
И я дождался. Какое это было облегчение! Не знаю даже, с чем сравнить. Ну, может, с такой ситуацией… Твои дети играют на газоне возле загородного дома, и ты получаешь известие, что из соседнего дома удрала ядовитая змея. И ты бродишь, бродишь, ищешь ее в густой траве, беспокоишься за детей; боишься бросить поиски, потому что она может твоих детей укусить, а ее укус смертелен. И вот ты ее находишь! Облегчение, радость. Теперь твои дети могут играть спокойно и ничего не бояться.
Я издалека смотрел на это самодовольное лицо в дорогих очках. Лицо врача, который презрел великую клятву, предал своих пациентов, убил моего ребенка и искалечил мою жену. Врач, который только мне одному принес столько зла, что хватило бы на несколько жизней. Я понял, что распаляюсь, что на мое возбужденное состояние начинают обращать внимание в троллейбусе.
Я взял себя в руки. Нечего тут говорить, обсуждать – все правильно, все закономерно. Я спокоен и решителен. Я шел за ней до самого ее дома. Дождался, когда она исчезнет в подъезде, а несколько секунд спустя вошел следом. Лифт двигался вверх, и я поспешил по лестнице, перешагивая через ступеньку. Остановился он на пятом этаже, когда я уже поднимался на четвертый. Это было как раз то, что нужно. Я уже был между четвертым и пятым этажом, когда захлопнулась дверь ее квартиры.
Я не строил расчетов и не консультировался с психологами. Это пришло мне в голову случайно. Просто я представил себе человека, который только вошел в свою квартиру, только начал разуваться, раздеваться… И тут звонок в дверь. И он машинально открывает.
И я позвонил…
Не думайте, что я получил удовольствие. Нет, это было даже в какой-то мере страшно. То, что я испытал, скорее было сродни удовлетворению. Удовлетворению, что я смог это сделать, что я способен бороться со злом. И удовлетворение, что гадина умирает. Да, да! Сначала чувство удовлетворения, что она умирает, а потом – что уже умерла. Я не винил себя, хотя мысли, что это садизм, у меня поначалу были. И еще я очень боялся получить удовольствие от самого процесса убийства.
Но мои страхи оказались напрасными. Она открыла дверь, увидела меня, и целая гамма эмоций отразилась на ее лице. Непонимание при виде незнакомого человека, узнавание во мне того самого мужа той самой женщины, ребенка которой ей якобы не удалось спасти. Потом сострадание во взгляде, искусственное сострадание. В этом я был убежден. Комедию опять начала разыгрывать!
Я шагнул в квартиру, не дожидаясь приглашения, а она машинально позволила мне это сделать. И я ее задушил. Просто схватил за горло и стиснул со всей силы. Я вложил в это действие всю свою ненависть, все свое горе, горе всех предыдущих ее пациентов и будущих. Тех, кому она теперь уже горя не принесет. И я смотрел ей все это время в глаза.
Зачем? Это было необходимо, чтобы… чтобы ощутить свою правоту. Я давил ее горло и смотрел, как выпучиваются глазаврача, как она раззявила рот, как ее толстые пальцы вцепились в мои руки. Умри, мразь! Сука, паскуда, гнида… Сколько вас еще на свете – тех, кто гадит вокруг себя, для кого мы все ничтожества, кого такие,как ты, презирают? Сколько вас еще таких, кто не считает меня, нас за людей, кто с легкостью принимает решение убить, отнять, лишить, искалечить? Ну, вот и получи свое…
И мне стало легче. Я вернулся домой и впервые за последние несколько дней – а может, и недель – посмотрел жене в глаза. Она лежала под пледом. Я присел рядом, положил ей руку на плечо. Она шевельнулась. Я наклонился, отогнул край пледа и посмотрел в ее лицо. Оля лежала, уставившись в стену перед собой. Лицо у нее было спокойным, даже слишком. Даже не лицо, а маска какая-то. И глаза, как две страшных черных дыры на лице.
Я взял ее лицо в ладони и повернул к себе. Теперь что-то изменилось во мне. Со времени выписки Оли из роддома я о ней почти не думал. И мы с ней, кажется, не разговаривали. А теперь во мне проснулась жалость. То, что я совершил, явилось чертой, после которой начинается новая жизнь. Я отсек прошлое.
– Оленька, – проговорил я чужим, незнакомым мне голосом, – я с тобой, родная.