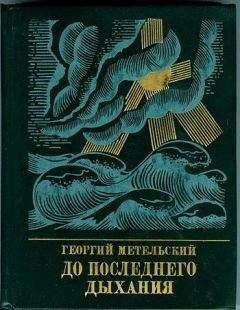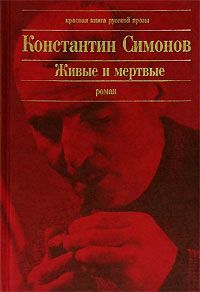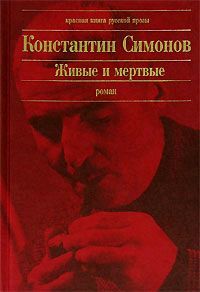— У тебя все по плану. — Ольга улыбнулась.
— А то как же.
Она надела куртку и повязала голову красной косынкой.
— Я готова, Ванечка… Пошли?
До последнего времени Ольга работала в девятнадцатом лазарете «сестричкой», но несколько дней назад БК направил ее заведовать столом учреждений в Продовольственном комитете.
— На демонстрацию пойдешь? — спросил Фиолетов.
— Если отпустят. Ты же знаешь, мое меньшевистское начальство невзлюбило меня с первого дня.
— Ничего, скоро и там наведем порядок…
Он провел два митинга в Черном городе, а потом направился в Бакинский комитет, где в дверях нежданно-негаданно столкнулся с Джапаридзе.
— Кого я вижу! Алеша! — радостно воскликнул Фиолетов.
— Ванечка! — В голосе Джапаридзе слышались те же нотки.
Они обнялись.
— Сегодня утром из Тифлиса, — сказал Джапаридзе. — И сразу в БК за новостями и распоряжениями.
— В двенадцать общегородская манифестация. Скоро все подойдут.
— Я слышал, Ванечка…
Прямо с манифестации Фиолетов пошел на заседание Совета.
Большевики расположились в зале маленькой тесной группой, председательское место занял Степан Шаумян. Вопросов, которые надо было обсудить, набралось много, и он сразу предоставил слово Фиолетову.
Фиолетов поднялся на сцену, достал из кармана испещренный множеством подписей листок.
— Товарищи! Я держу в руках заявление представителей шестидесяти двух предприятий подрядного бурения. Рабочие пишут, что они поставлены в нечеловеческие условия. Получают семьдесят копеек в день. И это в то время, когда в двери к ним стучится голод. Ежедневные травмы на производстве, несколько смертных случаев за последние две недели. «Полмесяца прошло, как рухнуло самодержавие, а у нас нет никаких изменений, — пишут рабочие. — Все осталось как при царе — штрафы, побои, увольнения». Рабочие обращаются к Совету с просьбой помочь им заключить коллективный договор.
Фиолетов знал, что значит пробурить скважину. Он видел этих с ног до головы забрызганных грязью рабочих, девять часов подряд ввинчивающих бур в черствую, неподатливую землю — двое на одном конце железного стержня, двое на другом. При сорокаградусной жаре, при ураганном ветре, который свистит в дырявой вышке. Скважина в пятьсот сажен бурится четыре года. На этой глубине опасен каждый поворот ключа: в любой момент газ и нефть могут со страшной силой вырваться наружу, разнести вышку и убить людей. Правда, ручной труд можно заменить машинным, но буровой станок стоит дорого, а человеческие руки не стоят почти ничего…
Когда в декабре 1904 года был подписан первый в России коллективный договор, рабочие назвали его «мазутной конституцией». «Конституция» действовала недолго, наступила реакция, и многое из того, что с таким трудом и такими жертвами вырвали у предпринимателей рабочие, вскоре было перечеркнуто нобелями и тагиевыми. Потом военный угар охватил империю. И наконец, ворвалась в Россию вторая революция, которая смела самодержавие, как бакинский норд сметает опавшие листья.
Но стало ли лучше жить гражданам «мазутной республики»? Фиолетов, воспринявший весть о крушении империи с восторгом и надеждой, теперь, и с каждым днем все больше, убеждался, что Февральская революция, блеснув фейерверком, погасла. Иллюзии на скорые и безболезненные перемены к лучшему развеялись под натиском суровой и беспощадной действительности.
— Вывод напрашивается сам собой, — заключил выступление Фиолетов. — Пока у власти остаются нефтепромышленники и заигрывающие с ними меньшевики вкупе с эсерами и дашнаками, положение не изменится. Нефтепромышленников надо обуздать и для этого потребовать от них заключения нового коллективного договора…
— В вас, оказывается, пропадает талант оратора, — кисло похвалил Фиолетова Айолло, когда закончилось заседание.
— Почему пропадает? — вежливо осведомился Шаумян. — Ораторский талант Ивана Тимофеевича делает свое нужное и доброе дело. Вот вы, господин Айолло, аплодировали вместе со всеми, хотя та часть выступления, в которой Иван Тимофеевич громил меньшевиков, едва ли вам пришлась по душе.
С заседания Шаумян и Фиолетов возвращались вместо.
— Никто не знает так хорошо жизнь бакинских рабочих, как вы, Иван Тимофеевич… Пожалуйста, не машите протестующе руками… Нам известен ее, так сказать, фасад, вы же знаете эту жизнь изнутри. Короче говоря, мне бы очень хотелось, чтобы вы взвалили на свои плечи вопрос о заключении коллективного договора, и не только для работников подрядного бурения, но и для всех рабочих нефтяной промышленности.
— Они не такие могучие, Степан Георгиевич, эти плечи…
— Не беспокойтесь, поддержка будет обеспечена, и надежная. Мешади, Алеша… С завода вам, понятно, придется уйти. Вам просто будет некогда работать на два фронта. Если вы не запамятовали, вам и раньше советовали уйти в профессиональные революционеры, вы отказывались, и в этом был свой резон, но сейчас вам надо целиком отдаться партийной работе… Простите, вы сколько зарабатываете на заводе?
— Ну разве это имеет значение?
— Имеет. Наша партийная касса не очень богата, но я поговорю с товарищем Вацеком, чтобы он обеспечил вам сносное существование.
— Степан Георгиевич, я вас очень прошу, не надо этого делать. Ольга зарабатывает шитьем, я тоже могу подрабатывать вечером, как все.
Шаумян перебил его.
— Этого еще не хватало! Вы, Иван Тимофеевич, не «все». Вы… — Он долго не находил слова, наконец нашел и обрадовался: — Вы — Ванечка.
Было поздно. Они еще долго ходили по опустевшим, сонным улицам, пока не спохватились, что обоим надо рано вставать, что впереди уйма дел.
— Катерине Сергеевне и деткам мой большой привет, — как всегда, прощаясь, сказал Фиолетов.
У Фиолетовых не было детей, и он отцовскую любовь перенес на чужих мальчишек и девчонок. Дети это хорошо чувствовали и тоже самоотверженно любили своего дядю Ваню. Бледнолицые ребятишки балаханских рабочих всегда встречали его на улице, когда он шел с работы, и не только потому, что получали леденец или пряник. Просто им нравилось, что такой большой человек разговаривает с ними спокойно и рассудительно, как со взрослыми. Были бы свои — он точно так же разговаривал бы с ними, ничем не выделяя из других. Но своих детей не было. И не будет.
Ольга много лет не говорила ему о том, что случилось с ней в ярославской пересыльной тюрьме, а потом все-таки рассказала.
— Помнишь, Ванечка, я передавала тогда, что меня в больницу положили?
— Конечно, помню, Леля, — ответил он, почему-то волнуясь.
— Перед тем днем я на спинку койки встала, чтоб до окошка дотянуться. Думала — тебя увижу. Однако не удержалась и упала прямо на железо. Навзничь. Сознание потеряла. Доктор только через день пришел, когда ваш этап уже дальше в Вятку погнали. Посмотрел меня и говорит: «Жить будешь, а чтоб родить, этого, матушка, у тебя не получится». Вот так, Ванечка… А я ведь тогда ребеночка ждала…
Вечером он встретил около своего дома Сурена Шаумяна, остановил и долго молча смотрел на него, словно видел впервые. «Вот такой мог бы быть и у меня», — подумал Фиолетов и спросил вслух:
— Тебе сколько лет, Сурен?
— Пятнадцать… А что?
— Ничего, Сурен, это я просто так. Ты к нам шел?
— Да, дядя Ваня… У меня к вам просьба. Вы все можете.
Фиолетов улыбнулся.
— Ну, положим, не все… А что ты хочешь?
— Я слышал, что в какой-то мастерской делают значки с изображением Карла Маркса. Достаньте мне несколько. Хочу дать отцу, чтобы он, если увидит товарища Ленина, передал ему… от меня. Как вы думаете, дядя Ваня, Владимир Ильич примет такой подарок?
— Думаю, что примет, Сурен.
О возможной встрече Шаумяна с Лениным Сурен говорил не зря. Рабочие Баку выдали Шаумяну мандат делегата на Первый Всероссийский съезд Советов.
Значки Фиолетов достал на следующий день и занес их на квартиру Шаумяну. Степан Георгиевич уже собирался в дорогу, упаковывал потертый кожаный чемодан, побывавший с ним во всех ссылках и тюрьмах.
— Огромное спасибо, Ванечка, и извините за беспокойство, которое доставил вам Сурен.
— Ну что вы, Степан Георгиевич…
Шаумян приколол к пиджаку значок — миниатюрный портрет Маркса в узенькой ярко-красной рамке.
Август в Баку был, как всегда, знойным. Фиолетов устал от бесконечных заседаний, митингов, от палящего солнца. Завтра он опять поедет в Балаханы, потом зайдет в библиотеку, потом…
— Куда это Ванечка бежит в такую рань?
Фиолетов очнулся от своих мыслей, поднял голову и узнал Зевина.
— Яков! Здравствуй, дорогой. Я к Алеше. А ты откуда и куда?
— Здравствуй, Ванечка… Только что из первопрестольной.
— Опять через Францию? — Фиолетов назвал страну, где после яренской ссылки побывал Зевин.