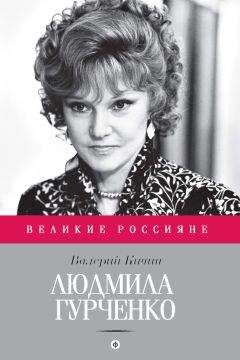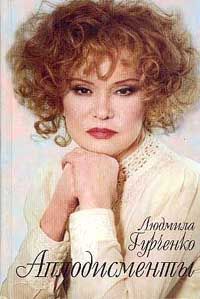Юность не задается этим вопросом вообще. Зрелость ищет в нем утешения.
«Ты выглядишь всего лишь мило: котенок с бантиком в хвосте, – поет Эмилия, адресуясь к молоденькой конкурентке, начинающей актрисе Кристине. – Не плакала, не хоронила – откуда ж взяться красоте? Беда, конечно, поправима – ты будешь адски хороша, коль скоро не промчится мимо страстных недель твоя душа…»
В том, как Гурченко «разминала» роль, прикидывая на себя жизнь Эмилии Марти, как вместе с поэтом искала во «всемирной» притче отзвуков вполне конкретных, сегодняшних актерских судеб, можно увидеть смысл всей затеи: в песенные тексты фильма вложены многие мотивы, связанные с возрастом и с идеей долголетия буквально или метафорически – от философского бесстрашия и готовности принять судьбу такой, какая она есть, до грустной самоиронии. Последнее качество, к слову, тоже в высшей степени свойственно Гурченко.
Вот так авторизовать материал пьесы, подчинить его новой, отличной от чапековской, но осмысленной, глубокой и современной художественной задаче, на мой взгляд, помогли сценаристы – драматург и поэт. Иным был замысел режиссера. Талантливый мастер телевизионной эстрады, Евгений Гинзбург впервые ставил игровую картину для большого экрана, да еще в новаторском, созданном для шикарных зрелищ «широком формате». И хорошо освоенные им принципы музыкального шоу он перенес в павильоны «Мосфильма». Но мюзикл – не шоу, а пьеса – не каркас, который в его «Бенефисах» замечательно, без швов скреплял самоценные музыкальные номера.
Многочисленные аттракционы, придуманные режиссером, целиком заполняли экран и наше внимание; в мелькании карнавальных масок, в кружении каруселей и цирковых антраша тонул смысл не только философских «зонгов», но даже и фабулы. Пьеса теперь исполняла функции шампура, на который, как шашлык, были нанизаны зрелищные номера, поставленные с размахом и выдумкой, но абсолютно самостоятельные, концертные. Героиня, та самая, чья судьба должна была нас взволновать, воспринималась деталью в пестрой мозаике; завороженная яркостью зрелища, публика чаще всего не слышала текстов, в них не вслушивалась.
Если драматург и поэт были союзниками актрисы, то композитор подыгрывал режиссеру: в музыке не оказалось внутренней драматургии – тем, лейтмотивов, музыкальных характеристик, развития. Не было «шлягера», способного запомниться. Хотели делать мюзикл – вышло привычное шоу. Фильм снова распался под действием противоположных сил. Промелькнув бурлением звуков и красок, он оставлял чувство недоумения и досады.
У актрисы он оставил ощущение обманутых надежд. Может быть, последних, думала она. В ее творческой жизни расстояние между музыкальными фильмами равно десятилетиям – если так пойдет дальше, это, знаете ли…
То, что Гурченко мало снималась в музыкальных картинах, – непоправимая потеря. Универсальность ее дарования могла бы создать новый этап нашего музыкального кино – подобно тому, как этапом стало творчество Любови Орловой. Не повезло – прежде всего нам.
– Кто назвал этот жанр легким?! Почему он неуважаем, почему к нему нет должного внимания? Я на себе испытала эту второсортность! Но какой же он легкий, если актеров этого жанра можно сосчитать по пальцам, а режиссеров и того меньше?
Это она говорила своему доброму гению Анатолию Гребневу, одному из немногих классиков нашей кинодраматургии, который подарил Люсе чудо ее второго рождения.
Исчезло, как будто испарилось то свойство мозга, которое управляет способностью мечтать…Человеку, для которого одно из тяжелейших испытаний есть не отсутствие семьи, не отсутствие любви, не отсутствие наличия материальных благ, а отсутствие работы, девальвация профессии, если он от этого гибнет… Ох, он должен обладать большим запасом нравственной прочности, чтобы выжить.
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
Так вышло, что после роли современной деловой женщины в «Старых стенах» пошла вдруг череда фильмов, обращенных к недавнему прошлому. К годам, на которые пришлись детство и юность Гурченко. Судьба женщины трудных военных лет стала на какое-то время ее главной темой. Тема выстраивалась сама, даже без сознательного отбора ролей. Вопрос, который я как-то задал актрисе: «Случайность ли это?» – застал ее врасплох. Она не думала об этом специально.
Потом сказала: «Этих женщин я знаю. Я понимаю их лучше».
Тема действительно выстраивалась как бы сама. Были в те годы и другие фильмы, другие роли: в детективе «Преступление», например, или занятная роль девушки Валентины, которая проходила через все новеллы комедийного альманаха «Шаг навстречу» и их как бы скрепляла в единый фильм. Но они, как в центрифуге, отлетают на периферию, едва выстроятся в памяти ее героини из фильмов «Двадцать дней без войны», «Семейная мелодрама», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Сибириада», «Пять вечеров», «Особо важное задание»…
«Я их лучше понимаю, – повторяет Гурченко. И добавляет: – Сейчас так устаешь от этого всеобщего рационализма. Тебе улыбаются, а ты не знаешь, что у человека на душе!»
Она выросла в доме, открытом для всех. «Папа был счастлив, когда приходили гости». Душевная щедрость была по-деревенски естественной, непоказной и, казалось, единственно возможной в отношениях между людьми. Камня за пазухой не держали и не предполагали его у других. Чувства и слова могли быть только искренними.
Но открытость уязвима перед коварством, искренность – перед обманом и двоедушием. Жизнь преподает трудные уроки, вот и учишься улыбаться независимо от того, что творится на душе.
Она многого еще не понимала в пору своей первой непрочной славы. Почему тот, кто еще вчера, казалось, искренне восхищался и пел дифирамбы, сегодня злорадствует: «А Гурченко, кажется, кончилась! Ненадолго же ее хватило!» Почему неудача обязательно воспринимается как всеми ожидаемый крах? Почему тут же становится пятном на репутации и перегораживает все пути? Почему нельзя и тут жить и работать открыто?
Гурченко научилась улыбаться, когда не хочется, – она же актриса, и раз уж такой стандарт… Но это единственный случай, когда игра не доставляла ей радости. Немного в нее все-таки поиграла, а потом написала «Мое взрослое детство» с такой бесстрашной искренностью, какая действительно непривычна для книг такого жанра. И как раз эта искренность в книге подкупает, делает ее свидетельством времени.
К началу съемок в «Старых стенах» от той безоглядной открытости, что освещала ее ликующую актерскую юность, уже мало что осталось. Ушли беззаботные времена, когда в любом собрании ее прихода ждали, как праздника, когда с ее появлением сразу становилось шумно и весело, начинались песни и веселые актерские импровизации, рассказы, бесконечные шутки… Беззаботно открытый человек быстро учится быть закрытым – но уж тогда наглухо. Уходит в глухую оборону, становится подозрительным, даже мнительным. Люся теперь шла по жизни как по минному полю, настороженно выверяя каждый шаг, внимательно присматриваясь к собеседнику, чутко улавливая любую интонацию, за которой мог назревать подвох. С ней стало и впрямь нелегко общаться. Сквозь эту ее постоянную настороженность надо было пробиваться; но если пробьешься – увидишь человека дивной душевной красоты, и ранимого, и беззащитного, и застенчивого, как ни странно это звучит по отношению к знаменитой актрисе. Но тут же выяснялось, что удалось пробиться только через первый слой, а дальше – снова все ощетинено. Вот уж, кажется, вполне доверительные отношения установились – но нет, на первую же неловкую шутку реагировала отчужденно: а вдруг это ты всерьез, а вдруг и ты, Брут! Неуклонно сужался круг людей, кому она верила, на кого могла положиться. Человек обрастает корой, как годами.