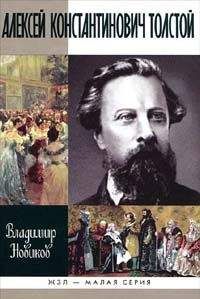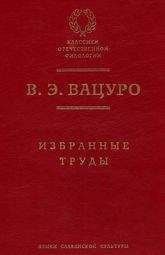В это время приходят вести из-под Пскова, что штурм города войсками Стефана Батория отбит и поляки сняли осаду. Иван IV сразу же меняет своё решение и якобы смиренно покоряется просьбе бояр нести и далее тяготы правления:
Свидетельствую Богом — я не мнил,
Я не хотел опять надеть постылый
Венец мой на усталую главу!
Меня влекли другие помышленья,
Моя душа иных искала благ!
Но вы не так решили. Кораблю,
Житейскими разбитому волнами,
Вы заградили пристань. Пусть же будет
По-вашему! Я покоряюсь Думе.
В неволе крайней, сей златой венец
Беру опять и учиняюсь паки
Царём Руси и вашим господином!
Алексей Толстой специально оговаривает время действия началом 1584 года (точнее: с января по Кириллов день, 18 марта); между тем все указанные события имели место во второй половине 1581 года. Однако они представляют собой великолепную экспозицию дальнейшей трагедии. Надо сказать, что подобное «сжатие» стало уже традиционным приёмом исторической драматургии. А. К. Толстой сознательно следовал тому, что было неоднократно апробировано на сцене. Он писал в статье «Проект постановки на сцену трагедии „Смерть Иоанна Грозного“»: «Поэт… имеет только одну обязанность: быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили; человеческая правда — вот его закон; исторической правдой он не связан. Укладывается она в его драму — тем лучше; не укладывается — он обходится и без неё. До какой степени он может пользоваться этим правом, признаваемым за ним всеми эстетическими критиками, начиная от Аристотеля до Рётчера[60] и Белинского — это дело его совести и его поэтического такта». Итак, А. К. Толстой новатором отнюдь не был; но он показал себя замечательным мастером, в совершенстве наделённым «чувством сцены».
Мысль не ограничиваться одной пьесой, а продолжать работу с тем, чтобы до конца высказать свои взгляды на исторический путь России, зародилась у Алексея Толстого, когда большая часть «Смерти Иоанна Грозного» была уже написана. Волей-неволей, вторым лицом пьесы становился Борис Годунов, как своеобразный антипод царя. От сцены к сцене его роль неимоверно возрастает. На самом деле в последние годы жизни Ивана IV Борис Годунов ещё был достаточно далёк от престола и отнюдь не являлся первым советником сурового и непредсказуемого в своих необузданных порывах самодержца, сумевшим отговорить его от брака с англичанкой — гастингской принцессой:
Иоанн
Не по сердцу боярину Борису,
Чтоб царь Иван с великой королевой
Вступил в родство? Так? Что ли? Говори!
Тебя насквозь я вижу!
Годунов
Государь!
Напрасно я с тобой хотел лукавить;
Но от тебя сумеет кто сокрыть,
Что мыслит он. Так, государь! Виновен
Я пред тобой. Вели меня казнить —
Но выслушай: не мне, великий царь,
А всей Руси не по сердцу придётся
Твой новый брак. Вся Русь царицу любит
За благочестие её, а паче
За то, что мать Димитрия она,
Наследника второго твоего,
Который быть царём однажды должен.
Как за тебя, так за твою царицу
Народ вседневно молится в церквах.
Что скажет он? Что скажет духовенство.
Когда ты мать Димитрия отринешь
И новый брак приимешь с иноверкой —
Осьмой твой брак, великий государь!
Не скажут ли, что все невзгоды наши
(И, может быть, их много впереди)
Накликал ты на землю? Государь,
Казни меня — но я у ног твоих.
Волхвы, предсказавшие Ивану IV смерть в Кириллов день, тогда же предсказывают Борису Годунову трон; но Борис Годунов в то время не мог мечтать о столь стремительном возвышении; его честолюбивые амбиции вряд ли шли далее первого боярина Думы. Это и психологически неоправданно, поскольку для карьеры Бориса Годунова более характерно медленное поступательное продвижение к ближайшей цели, которая казалась ему вполне реальной и достижимой. На верховную власть он тогда претендовать просто не мог. Кстати, И. А. Гончарову весь эпизод с волхвами представлялся лишним и не вписывающимся в чёткую структуру пьесы.
В первоначальном варианте «Смерти Иоанна Грозного» таких «преждевременностей» было ещё больше. Об этом свидетельствует письмо А. К. Толстого Каролине Павловой от 16 апреля 1866 года: «Получили ли Вы экземпляр „Смерти Иоанна“, который я послал из Петербурга? Знаю, что Вы не можете одобрить все сделанные мной изменения, но уверяю Вас, что они мне были необходимы, чтобы связать эту драму с „Фёдором Иоанновичем“… Дорогая госпожа Павлова, я должен воззвать к Вашей дружбе и умолять, чтобы Вы согласились ещё раз пересмотреть перевод и внести в него изменения, которым подвергся подлинник. Я прошу Вас об этом не только ввиду драмы о Фёдоре. Я нахожу, что мой Годунов недостаточно осмотрителен в том виде, как он изображён первоначально и как он, следовательно, является и в переводе. Сцена с царицей, где он требует от неё опеки над Дмитрием, когда умрет Иоанн и когда умрёт Фёдор, — сцена хоть и эффектная, но неправдоподобная. Слишком рискованно было бы так вести себя, да и слишком ещё рано. Годунов так бы не поступил. Внушения, делаемые мамке, тоже преждевременны и, естественно, относятся к драме о Фёдоре. Что касается остального, то почти нечего и переделывать, кроме как сократить и несколько сжать диалог, как это сделано у меня, а тут только и надо, что черкать — работа, которую я сам очень люблю».
Противостоящее Борису Годунову боярство выглядит достаточно безликой массой; в их среде бесконечно плетутся интриги и фабрикуются доносы, но к решительным действиям они не приводят. Правда, те же бояре проявили себя отважными воинами на поле брани и умели мужественно умирать на плахе. У Толстого из этой среды выделяется лишь фигура Захарьина. О последнем достаточно подробно говорилось в предыдущей главе. Захарьин был личностью гораздо более сложной, чем представлен в «Смерти Иоанна Грозного». Долгое время он и Борис Годунов выступали союзниками. Но Алексею Толстому, исходя из эстетики исторической драмы того времени, был необходим герой, которому отводилась бы роль рупора авторской позиции. Им стал Захарьин. Но он не отвлечённая фигура какого-нибудь Здравомысла, выведенного на сцену только с целью в нужных местах изрекать моральные сентенции. Захарьин — живой человек, сломленный царским деспотизмом и только в исключительных случаях способный стряхнуть с себя нравственную апатию. Однако именно он произносит заключительные слова, как бы подводящие черту под произошедшим: