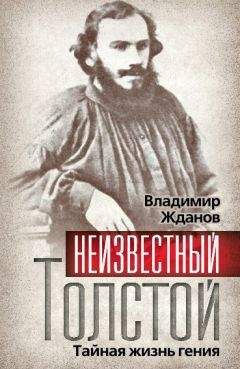На сороковой день Софья Андреевна ездила на кладбище. «Нечего тебе рассказывать, – пишет она сестре, – что чувствуешь, когда вызовешь в себе ясно все грустные воспоминания. Одно странно, что мне близка стала мысль о том, что в эту самую яму, куда опустили моего ребенка, опустят и меня, и это не страшно, но даже приятно, и эта яма, как будто мое место самое лучшее и законное, а теперь все только покамест. Мне теперь часто кажется, что я утешилась, а иногда я вдруг чувствую, что я совсем переменилась, все во мне перевернулось и стало иначе, сложнее и грустнее… После смерти Петюшки он [Л. Н.] долго не мог приняться за дело, и теперь иногда жалеет и вспоминает его и ждет больше меня нового ребеночка, а я довольно равнодушна и, вообще, никогда не испытываю нежности к неизвестному.
Дети очень ждут елку: мы уже нарядили 25 скелетцев, купили золота для орехов, и я на этой неделе поеду все закупать для елки. Гостей почти никого у нас не будет… Наряжаться никто не будет, мне неприятен весь этот безобразный шум так скоро после смерти ребенка, и дети это поняли и совершенно согласны. Они все пятеро гуляют всякий день, катаются с горы и старшие на коньках. Я все больше сижу дома, переписываю [150] , крою, шью мало, учу очень много, а для развлеченья мы наладили на этих днях всякий день кататься вечером на тройке, что очень приятно».
Сам Лев Николаевич сообщает об этом горе Фету и А. А. Толстой: «Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское – это удивительное высшее проявление Божества на земле – не рассуждает, и жена очень горюет». «Из всех близких потерь, которые мы могли понести, эта была самая легкая, мизинец, но все-таки больно, для жены особенно».
Первое несчастье тяжело поразило и Льва Николаевича и Софью Андреевну. Перед обоими встал неумолимый вопрос смерти, но в характере их переживаний заметна большая разница: Софья Андреевна переносит проблему в план чисто семейный, а для Льва Николаевича смерть близкого человека полна глубокого религиозного смысла. «Если потерей любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаешь ее любить и ждать от нее хорошего, то эти потери должны быть невыносимы; но если поддаешься на это приближенье к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть. Маленький пример: хороня Петю, я в первый раз озаботился о том, где меня положить. И на Соню, кроме той особенной почти физической материнской боли, это подействовало так же, несмотря на ее молодость».
Софья Андреевна писала иначе: «К какому мрачному, безвыходному взгляду на жизнь привели меня эти три близкие мне смерти: Даши, Пети и Володи [151] , ты не можешь себе представить. Несмотря на всю мою бодрость духа, на способность находить спокойное и счастливое в жизни, теперь я почти утратила эту способность. Смотрю на своих детей и думаю: зачем я их учу и мучаю и браню, может быть, и жить не будут. И все мне кажется, что вот-вот начинается какая-то смертельная, болезнь, чаще всего боюсь за Сережу. Он как старший и самый умный и самый добрый мне всех милее и страшнее. Ужасно хочется скорей увидеть тебя; мне кажется, что мы вместе, и собрав всех детей своих вместе, скорее найдем опять и способность радоваться и находить счастье». Утешение скоро пришло. Через несколько месяцев, 22 апреля 1874 г., родился сын Николай.
«У нас все хорошо в семье. Вы предсказывали мне девочку, но родился мальчик – точно такой же, как тот, которого мы потеряли, и, хотя его зовут Николаем, мы невольно зовем его Петей, как прежнего, – пишет Лев Николаевич А. А. Толстой. – Я не приехал в Москву [152] особенно потому, что перед вашим приездом только что был там, а вы не можете себе представить, как мне все тяжелее и тяжелее уезжать из дома, то есть выбрасывать из жизни те дни, которые я вне дома; и тем тяжелее, чем меньше их остается».
К этому времени следует отнести первые проявления будущих коренных разногласий между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Они не были продолжительны и не могли серьезно отразиться на их отношениях, но Софье Андреевне представился случай уяснить свой взгляд на работу Льва Николаевича и дать оценку его деятельности.
Выше было указано, что после «Войны и мира» духовная жизнь Толстого протекала в двух совершенно самостоятельных направлениях: в направлении творчества, отвлеченного от текущей жизни, и практического – литература и педагогика. Эти деятельности не совпадали и постоянно вытесняли одна другую. «Сначала Лев Николаевич всю энергию свою употребляет на создание «Азбуки», но потом «умственная – душевная работа [его] по этому делу кончилась» и он «счастлив теперь, спихнув с [себя] эту работу… [И] последние дни насилу удерживал потребность начать свою настоящую работу», т. е. художественное творчество, – сначала «Петра I», потом – «Анну Каренину». Правда, он не оставляет педагогических занятий и школы, но все его внимание сосредоточено на искусстве. Потом опять возникает охлаждение к нему, возобновляется интерес к народному образованию, так как Льву Николаевичу трудно «оторваться от живых людей, чтобы заняться воображаемыми».
В 1874 году он пишет А. А. Толстой: «Я нахожусь в своем летнем расположении духа, то есть не занят поэзией и перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится; а занят практическими делами, а именно, педагогикой: устраиваю школы, пишу проекты и борюсь с петербургской педагогией вашего protege [153] Дмитрия Андреевича [154] , который делает ужасные глупости в самой важной отрасли своего управления, в народном образовании».
В первое время Софья Андреевна вполне принимает обе стороны деятельности мужа: она помогает ему в работе над «Азбукой», учит в школе и чувствует, что новые интересы вносят в семью особую красоту и уют. Но практические занятия начинают разрушать то, на чем семья выросла, чем семья гордилась, что давало семье материальное благополучие, и Софья Андреевна резко отвергает их.
«Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, то есть где будут образовывать учителей для народных школ, и все это его занимает с утра до вечера. Я с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не писанье романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта деятельность распространится на маленький уголок России – Крапивенский уезд».
«Роман не пишется, а из всех редакций так и сыпятся письма: десять тысяч вперед и по пятьсот рублей серебром за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается. А мне, Бог с ними, с деньгами, а главное просто то его дело, то есть писанье романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно, а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, чего-то, что я любила; и это, именно, недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уваженье. Вот, Таня, я, настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело.