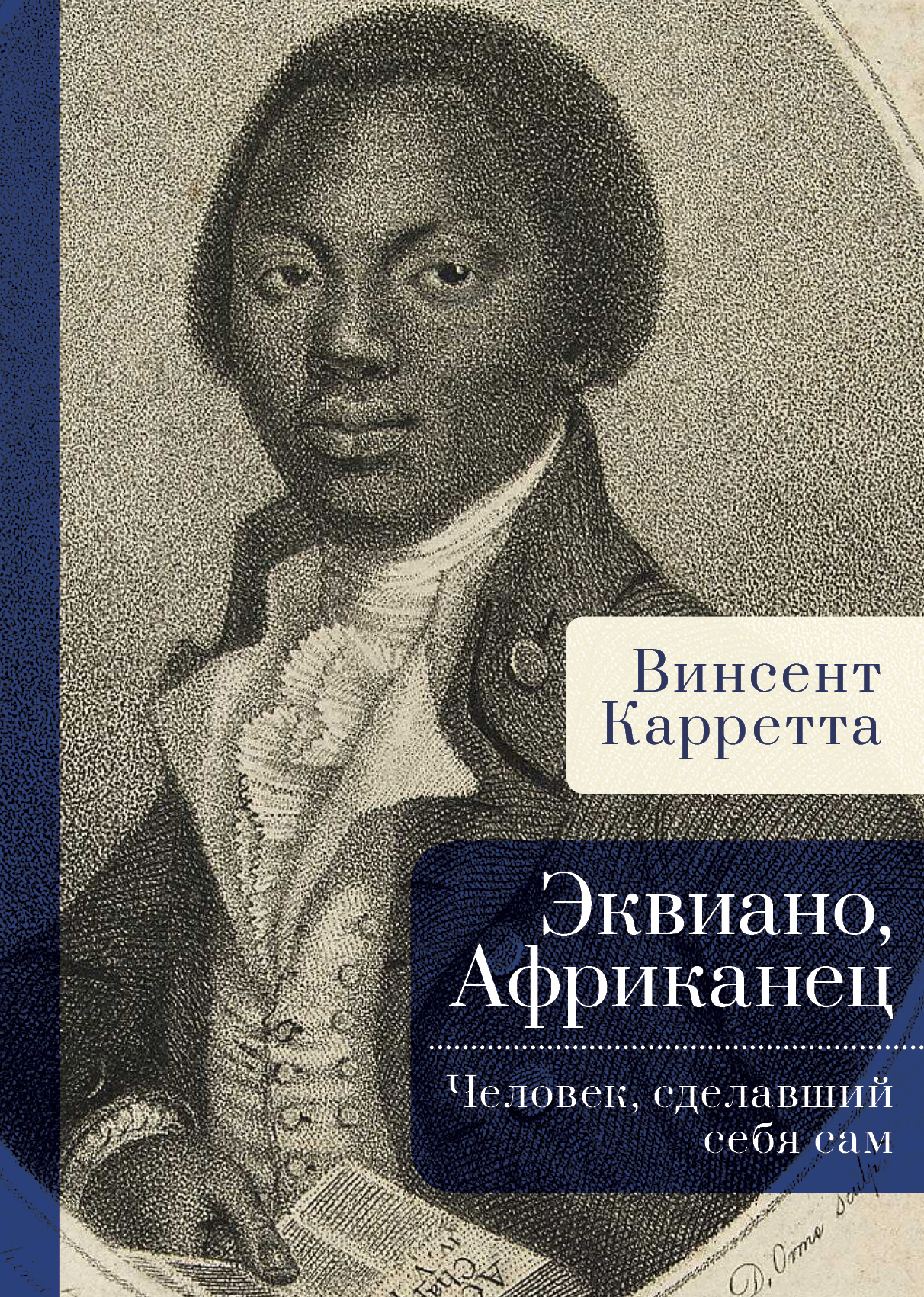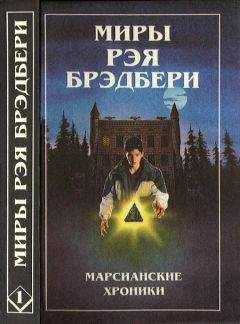за то, что он попросил белого расплатиться за работу, после чего его выслали из Джорджии «по ложному обвинению в намерении поджечь дом джентльмена и сбежать с его рабами» (205).
Эквиано куда меньше беспокоила возможность физических мучений, чем исходящая от Рида угроза его чувству достоинства свободного человека: «Больше всего я страшился, что останутся шрамы, поскольку за всю жизнь мне еще не доводилось получать таких отметин жестокого обращения. Гнев объял мою душу, и сперва я решил оказать сопротивление первому же, кто попытается применить насилие или обойтись со мной без суда, и что лучше я погибну, как свободный человек, чем добровольно лягу под бич негодяя, чтобы пролить кровь, как раб». В конце концов капитану и остальным удалось убедить его в том, что сопротивляться такой злобной личности, как Рид, бесполезно, и он согласился укрыться в доме, который капитан снимал за городом. Едва Эквиано покинул город, на судно заявился Рид с констеблями, божась захватить его «живым или мертвым». В течение следующих пяти дней Фармер ничего не предпринимал, чтобы его выручить, и только узнав, что друзья Эквиано решили перевезти его на другое судно, взялся за дело. Он долго упрашивал Рида простить Эквиано, аттестуя его обладателем доброго нрава и безупречной репутации, к тому же незаменимым членом экипажа. Рид с неохотой согласился, сказав, что Эквиано может «отправляться ко всем чертям», а он больше слышать не хочет об этой истории (206). Фармер полагал, что на том и делу конец, однако ему напомнили, что следовало еще забрать ордер у констебля, и только тогда оно было бы юридически завершено, а Эквиано не угрожали бы «преследователи». В конце концов, он смог спокойно вернуться на Nancy, впрочем, ему еще пришлось оплатить судебные издержки.
На борту его ждало много работы. Поблагодарив друзей на берегу за помощь, он включился в подготовку Nancy к обратному рейсу в Вест-Индию с грузом из двадцати бычков и другого скота, пользовавшегося большим спросом на островах. Чтобы возместить Эквиано потерянное время и побудить трудиться с обычным усердием, Фармер пообещал, что он сможет провезти двух бычков на свой счет. Но когда пришло время грузить их на борт, он объявил, что места на судне не хватит даже для одного. Эквиано «это совершенно убило, и я сказал, что не подозревал, что он способен так обойтись со мной и что у меня в голове не укладывается, как можно настолько не держать слова. Из-за этого мы повздорили, и я дал понять, что намерен покинуть судно». Снова испугавшись, что может его потерять, и последовав настоятельному совету хворающего помощника, чьи обязанности давно уже исполнял Эквиано, Фармер извинился и пообещал вознаградить, когда они вернутся домой, а также воззвал к его чувству долга, поскольку «помощник болен и без меня ему не обойтись», а «безопасность судна и груза целиком зависит от меня». Эквиано неохотно «согласился продолжить свою тяжкую службу» (207).
Пытаясь загладить вину за то, что не выделил ему места для бычков, Фармер стал уговаривать его взять индеек и другую птицу, чтобы продать на островах. Эквиано отказывался, так как прежде не имел дела с индейками и был уверен, что нежным созданиям не пережить плавания. Чем больше он противился, тем сильнее настаивал Фармер. В конце концов капитан взял верх, обещав Эквиано возместить все убытки, буде таковые возникнут из-за того единственного товара, который он мог купить здесь на свои колониальные бумажные деньги. Эквиано так расстроился из-за индеек и так разозлился на капитана Фармера и разочаровался в нем, что «решил не пускаться более ни в какие плавания ни в этих краях, ни с этим капитаном» (208).
Он действительно не совершит больше ни одного плавания под командой Фармера. В ноябре, на пути к Монтсеррату, старший помощник совсем слег. Капитан Фармер тоже жаловался на недомогание после того, как один из бычков боднул его в грудь. Бурное море еще более осложнило положение, потому что они были не в состоянии помогать остальным семи матросам, которым приходилось непрерывно откачивать воду. В штормовую погоду в открытом море судно, и без того не очень прочное, принимало так много воды, что уже через неделю несколько бычков захлебнулись, и остальных ждала та же участь. Ни у помощника, ни у капитана не было сил выбираться на палубу, и «за всё плавание они произвели только четыре или пять обсерваций. Все заботы о судне легли на мои плечи, и править судном приходилось руководствуясь чутьем и опытом, поскольку использовать траверсную доску я не мог» (208). Теперь Фармер сокрушался, что не обучил Эквиано тригонометрии для определения долготы и склонения, необходимых для расчета места и пути в открытом море. Не научил он его и пользованию траверсной доской, «приспособлением в виде тонкой доски, расчерченной по румбам компаса и имеющей по восемь отверстий на каждом румбе, а также восемь колышков, подвешенных к центру доски… для регистрации курсов, которыми следовало судно в течение вахты; а также для фиксации расстояния, преодоленного данным курсом». [180]
Фармеру так и не довелось исполнить обещание и исправить свое упущение. Спустя две с небольшим недели он уже не вставал с койки, хотя и «продолжал печься об интересах хозяина; этого честного и благородного человека всегда больше всего заботило порученное дело». Как истинный «человек чувства», он умер, больше тревожась о другом, нежели о себе: «Почувствовав, что конец близок, мой дорогой друг позвал меня по имени и, когда я вошел, попросил (почти с последним вздохом) простить его, если он когда-либо поступил со мной дурно. «Накажи меня Бог, – отвечал я. – Да если б я мог такое подумать, то был бы последним негодяем, неблагодарным первейшему своему благодетелю». Пока, сидя у его постели, я выражал свою преданность и горе, он испустил дух, не сказав более ни слова, и на следующий день мы предали тело пучине». На корабле все любили капитана и сильно горевали о нем. Но лишь его смерть заставила Эквиано осознать, как много Фармер значил для него и до какой степени заменил ему Паскаля как объект любви: «Я сам не знал всей силы привязанности к нему. А ведь у меня были все основания для этого, потому что если со всеми он был мягок, приветлив, великодушен, добр, благожелателен и честен, то мне он был еще и другом и отцом, и если бы по воле Провидения он скончался на пять месяцев раньше, я более чем уверен, что не обрел бы свободу тогда, когда это случилось; и может, и вовсе бы ее