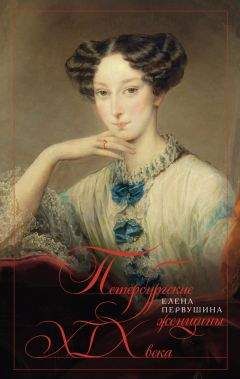Ознакомительная версия.
— Лоскутницы? Какое милое слово вы сочинили! Где это вы слышали этакое слово?.. У вас все на уме издержки: это на мой счет. Кажется, я не много издерживаю, не разоряю вас…
Палагея Петровна вскакивает со стула и выходит из комнаты, хлопая дверью. Она удаляется к себе и плачет. Матрена Ивановна, мать Палагеи Петровны, застает ее в слезах и поднимает ужасный шум в доме.
— Слыхано ли дело, — кричит она, — бранить беременную женщину. Экой изверг!»
* * *
Вопрос, кормить ли ребенка грудью или передать кормилице, оставлялся на откуп самой женщине. Кормить ребенка самой считалось неотъемлемым качеством прирожденной матери, но если женщина брала кормилицу, ее никто всерьез не упрекал. При необходимости детей с первых дней жизни докармливали из рожка. Надежда Дурова пишет: «Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь; таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица. Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива».
Была кормилица и у первого сына Льва Николаевича и Софьи Андреевны — Сергея. Лев Николаевич настаивал на том, чтобы его молодая жена кормила грудью «из идеологических соображений», Софья была не против, но ничего не получилось: младенец неправильно захватывал сосок, никто не обратил вовремя на это внимание, и у молодой матери быстро появились трещины на сосках и развилась «грудница», то есть мастит. Софья Андреевна не смогла кормить сама из-за постоянных болей. Лев Николаевич был против того, чтобы брать из деревни кормилицу для младенца: ведь кормилица оставит своего собственного ребенка! Он предлагал выкармливать новорожденного Сергея из рожка. Но Софья знала, что часто в результате такого кормления младенцы мучаются болями в животе и умирают, а Сергей был такой слабенький. Впервые она осмелилась восстать против воли мужа и потребовала кормилицу.
Проблемы с кормлением были, очевидно, нередким делом. Анна Петровна Керн пишет: «Мать моя, восторженно обрадованная моим появлением, сильно огорчалась, когда не умели устроить так, чтобы она могла кормить; от этого сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь. Мать моя часто рассказывала, как ее огорчало, что сварливая и капризная Прасковья Александровна (жена брата. — Е. П.) не всегда отпускала ко мне кормилицу своей дочери Анны, родившейся 3 месяцами ранее меня, пока мне нашли другую».
Кормилицей Ольги Пушкиной (сестры поэта) была небезызвестная Арина Родионовна, родившая почти одновременно с Надеждой Осиповной и недавно овдовевшая (у Арины Родионовны родился тогда ее младший сын, Стефан). Кормилицей поэта была Ульяна Яковлевна, остававшаяся в семье Пушкиных до 1811 года.
* * *
Обычная одежда младенца состояла из распашонки и свивальника, т. е. длинной пеленки.
Хотя юные императорские дети Александр и Константин, родившиеся в последние годы XVIII века, уже познали радости свободного пеленания и закалки с младенчества, и любой россиянин мог убедиться в благотворности этой методы, приверженцы старых традиций предпочитали туго пеленать и кутать маленьких детей. О тугих пеленках пишет Надежда Дурова, чье младенчество пришлось на конец XVIII века, на тугие пеленки жалуется Лев Толстой, родившийся в 1828 году. «Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».
Впрочем, родители могли придерживаться методы Руссо, но весьма своеобразно понятой. Анна Петровна Керн вспоминает: «Батюшка мой с пеленок начал надо мною самодурствовать… Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по тогдашнему времени образован и глубоко проникнут учением Энциклопедистов, но у него было много задористости и самонадеянности его матери Агафоклеи Александровны, урожденной Шишковой, побуждавших его капризничать и своевольничать над всеми окружающими… От этого его обращение со мною доходило до нелепости… Когда, бывало, я плакала, оттого что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в темную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах… Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось… От этого прятанья случались казусы, могшие стоить мне жизни.
Однажды бабушка унесла меня, когда я закричала, на двор во время гололедицы, чтобы он не слыхал моего крика; споткнулась на крыльце, бухнулась со всех ног и меня чуть не задавила собою.
В другой раз две молодые тетушки качали меня на подушке, чтобы унять мои слезы, и уронили меня на кирпичный пол».
* * *
Особое платьице шили ребенку к крестинам. До середины XIX века считали, что крестильная рубашка должна быть длинной и подол юбки богато украшен, что символизировало долгую и богатую жизнь. К выбору крестных учебники этикета рекомендовали подходить очень вдумчиво: «Не годится приглашать свое высшее начальство или вообще высокопоставленных лиц, так как, во-первых, это похоже на заискивание, а во-вторых, неприятно получить весьма вероятный отказ… Просить об этом низших или беднейших себя также не годится, так как восприемникам приходится делать известные расходы при этом обряде».
Ознакомительная версия.