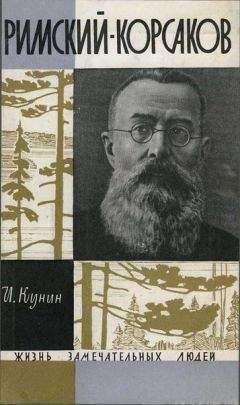Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто умира-а-ал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
Пусть вместе с нами земля ленинградская
Рядом стои-и-ит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала…
…Я не успел дослушать до конца, потому что почувствовал: кто-то стоит рядом и в больничной полутьме увидел зыбкое белое пятно. Догадался — дежурная медсестра Галя.
Прежде чем я успел раскрыть рот, Галя прошептала:
— Георгий Борисович, там в восьмой палате послеоперационный больной очень мучается. Надо ему укол понтапона сделать. А я забыла, сколько.
— Введи грамм, — решительно сказал я, хотя, в противоположность Гале, медицине не обучался и исходил только из своего собственного опыта. — Да, а потом зайди ко мне.
Все-таки изрядное свинство оставлять Галю дежурной сестрой на ночь в корпусе, где свыше 80 больных и почти все тяжелые.
Галя поступила в больницу почти одновременно со мной, после окончания трехгодичного фельдшерского училища. Это была восемнадцатилетняя, худенькая еще, нескладная девушка с большими, в сборочку розовыми губами, с четким очерком миловидного лица и прямым подбородком с небольшой ямочкой посередине. По утверждению некоторых романистов, таким подбородки бывают у людей смелых, решительных и непреклонных. Может быть, все эти качества действительно заложены в Гале, но, видимо, им будет суждено проявиться только в далеком будущем. Пока же эта застенчивая девушка с состраданием и откровенным страхом глядела на больных. Ее робость и неопытность тут же заметили некоторые остроумцы из выздоравливающих. Так как в урологическом корпусе изобретать предлоги для различных процедур с интимными органами не нужно, то они, забавы ради, то и дело обращались к ней с соответствующими просьбами, да еще нарочно громкими голосами. Галя краснела, а иногда просто убегала Остроумцы жаловались старшей сестре, та устраивав. Гале разнос. У нее выступали слезы на больших карих глазах, и она потом долго плакала, открыв двери стенного шкафчика и уткнувшись носом в стоявшие там лекарства. Видно было, как под белым халатом подрагивают ее острые лопатки.
Я, пройдя по палатам, пристыдил и обругал остряков, и они сразу же все прекратили. Им и самим было не по себе, но просто из дурного молодечества друг перед другом они никак не могли остановиться. После этого Галя прониклась ко мне симпатией и доверием, а также, немало меня озадачив этим, решила, что я разбираюсь в медицине. После операции она трогательно, хотя и не умело ухаживала за мной. А вот теперь, когда главный врач корпуса на два дня куда-то вылетел на консультацию, какой-то умник догадался оставить ее на ночь дежурной сестрой.
Вечером, после каждой процедуры, Галя, обессиленная главным образом от неуверенности, валилась на стул, пока новый крик не подзывал ее к очередному больному.
Время от времени она обращалась ко мне за советами, которые я, несколько поднаторевший в медицине за время пребывания в корпусе и принимая во внимание всю безвыходность ее положения, отваживался ей давать.
— Больной в трлъей палате очень стонет, — горестно сообщала мне Галя.
— А что у него?
— Камень в левой почке.
— Температура высокая?
— Нет, почти нормальная.
— Ну, тогда ничего страшного. Подложи ему одну грелку снизу, а другую сверху напротив почки.
Так было несколько раз в эту ночь, и я уже изрядно устал, да и мучился от своего довольно двусмысленного положения, но понимал, что ей сейчас еще тяжелее. А Вот теперь она ушла делать укол, а с ее способностям к этой процедуре вряд ли скоро вернется. А надо бы…
…Во время работы в Каракумах я вынужден был пить из верблюжьих колодцев воду немыслимой жесткости. Даже когда руки ею вымоешь, они становились белыми, словно надел бальные перчатки. Правая почка не сработала, и в ней образовался камень. Он вызывал приступы, сопровождающиеся сильной болью, мешал работать, двигаться, что мне как археологу-экпедиционнику было особенно необходимо.
Хлопотами лечащего врача, при помощи справок и ходатайств, получил я в конце концов испещренный подписями и печатями рецепт, по нему — десяток ампул морфия. Семен Абрамович быстро, как: и все, что требовало смекалки и ловкости рук, научился во время приступов делать мне уколы. Это помогало, но приступы становились все сильнее и чаще, и вот, в разгар экспедиционных работ, в июне 1955 года, я вынужден был уехать в Москву, лечь в больницу, где рентген и зверское исследование под названием цистоскопия показали, что камень довольно большой и ничего хорошего от него ждать нельзя.
Известный хирург-уролог, Лев Исаакович Дунаевский, главный врач урологического корпуса Басманной больницы, вырезал мне этот камень. Зашивая большой, около 30 сантиметров длиной разрез, его ассистентка Раиса Петровна оставила небольшое отверстие, в которое был вставлен резиновый катетер для отвода из оперированной почки гноя и других выделений. Видимо, во сне я случайно неудачно повернулся и получилось неладное. Да, а Галя появится неизвестно когда.
Но она пришла неожиданно быстро и безмолвно встала возле моей кровати расплывчатым белым пятном.
— Понимаешь, Галя, — как можно спокойнее сказал я, — у меня катетер сдвинулся. Видимо, началось кровотечение.
Галя вскрикнула.
— Да тише ты, — сердито одернул ее я. — Обработай йодом рану и залепи ее пластырем. Им же укрепи катетер. Света не зажигай. Возьми фонарик.
Но Галя не послушалась, и под потолком вспыхнула яркая без абажура лампа, осветив нашу палату, шесть коек, стоящие в два ряда по три в каждом, разделенные только тумбочками.
Пока Галя бегала за йодом, пластырем и другими снадобьями, обрабатывала рану, я искоса оглядел палату. Мне еще не разрешили поворачиваться на бок, только лежать на спине, так что угол зрения был ограничен, но кровать Павлика я все-таки увидел. Он не спал. Как и я лежал на спине, но, в противоположность мне, без всякой надежды когда-нибудь повернуться на бок. Небольшие серые глаза были раскрыты и невидяще устремлены в потолок. Лоб и лицо покрывали капельки пота. Нижняя губа закушена, и из нее по подбородку неспешно стекала тоненькая струйка крови.
— Пашка, — решительно сказал я, — не валяй дурочку, постони.
С трудом раскрыв рот, он грозно прошептал:
— Помолчи, фраер, не ори, и эта, ссученная, тоже иллюминацию засветила среди ночи.
— Брось, — миролюбиво оборвал я. — Все спят. Свет я и сам просил не зажигать. И потом я такой же фраер, как и ты. Просто ты черт знает где поднабрался разных словечек, а что к чему и сам не знаешь.