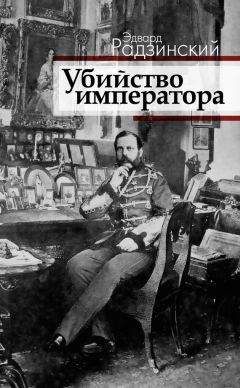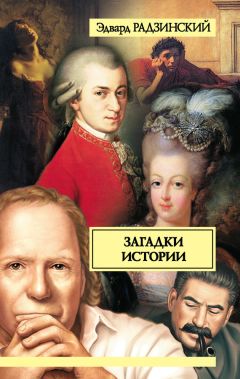Ознакомительная версия.
Были сильно смягчены николаевские антиеврейские законы. Царь отменил секретную инструкцию отца, запрещавшую евреям занимать государственные должности. Александр не посмел уничтожить черту оседлости для всех евреев. Но евреи – купцы первой гильдии и ремесленники, евреи, обладавшие учеными званиями, а также солдаты, отслужившие 25 лет в николаевской армии, получили право проживать вне черты оседлости.
Частью воинской реформы стала отмена телесных наказаний.
В России секли с древних времен. Порка была как бы частью завета предков, воспоминанием о «добрых временах отцов» – отеческим наказанием.
Секли крепостных, секли гимназистов, секли жен. В XVI веке в знаменитом «Домострое» был заботливо записан целый ряд правил, как мужу сечь жену, чтобы проучив ее, не покалечить «принадлежащее мужу живое имущество».
«Стегать надо плетью», но не забывать, что «по уху и лицу не бить, и по сердцу не бить… не бить ни кулаком, ни посохом, ничем железным ни деревянным» (ибо неопытные, видно, часто били – кулаком и посохом). Но люди разумные и добродетельные, «сняв с нее рубашку» (тут не эротика, просто так добро сохраннее), умеют «вежливенько побить плеткой», а потом простить ее и помириться.
Секли, естественно, преступников. Но особенно зверски секли провинившихся солдат. Секли за плохую выправку, за неряшливость в форменной одежде – до 500 ударов, за попытку побега из армии – полторы тысячи и три тысячи ударов за вторую попытку.
В свое время Николай, «закаляя плаксу», приказал Александру наблюдать наказание.
Били солдатика за попытку побега. Отец постарался быть милостив и вместо полутора тысяч велел дать пять сотен. Солдатик, маленький, скуластый, сопел, подергивал плечами и причитал: «Пожалейте, братцы». Но знал – не пожалеют. Ибо кто пожалеет, сам пойдет под плеть… Был выстроен строй – шпалерой с двух сторон, это именовалось «зеленая улица». Солдатика оголили до пояса. Ударил барабан. И повели его, несчастного, сквозь строй, привязанного за руки к двум ружьям… Вели два солдата. Вели медленно, чтобы каждый мог ударить шпицрутеном – во всю силу. Перекрикивая барабан, несчастный вопил, умолял, удары сыпались беспощадно! Уже кожа висит лоскутами, уже шатается… упал… подняли… Спины нет – обнаженное кровавое мясо… Еще упал, не встает… Уже не слышно его молений – конец. И мертвое окровавленное тело кладут на дровни, и солдаты волокут дровни с трупом. И по хлюпающему кровавому месиву строй доканчивает положенное число ударов.
Но Александр помнил популярные слова Бонапарта: «Высеченный солдат лишен самого главного – чести!» И вместе с телесным наказанием отменил и клеймение.
Так что теперь в освобожденной от рабства стране самым диким оставалось – его самодержавие!
Глава шестая
Разбуженная Россия
Рождение загадочного слова
В первые полтора десятилетия царствования в духовной жизни случилось невиданное пробуждение. Наступило некое Русское Возрождение – пиршество духа, рождение величайшей литературы, время бури и натиска в науке.
60-е годы – мировой триумф. Менделеев публикует таблицу под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», известную сегодня как «Периодическая таблица элементов».
Наука становится модной. Материализм и наука – обязательные атрибуты крутой молодежи. Кумир молодой России – Дарвин. Идея происхождения человека от обезьяны вызывает особый восторг молодых людей. Ярость священнослужителей восторг этот только усиливает. Все главные труды Дарвина тотчас переводятся.
Именно в 60-х годах известный писатель П. Боборыкин впервые вводит термин «интеллигенция».
В дни великих реформ и великих надежд появилось это слово.
В это время она чаще именует себя «разночинной интеллигенцией».
Разночинцы (то есть «люди разного чина и звания») – гремучая смесь выходцев из всех сословий России (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников). Как правило, разночинцы занимались умственным трудом – становились литераторами, журналистами, учителями, учеными.
И они гордо провозгласили новую эру: на смену дворянству на роль авангарда русского общества претендуют теперь они – разночинная интеллигенция.
Но это разъяснение и это определение интеллигенции, скорее, годится для иностранного читателя. В России любому мало-мальски размышляющему человеку оно покажется смешным. Ибо если быть честными, сама интеллигенция до сих пор затрудняется определить, что же она такое.
Это не класс, это не партия, это не религиозная секта, это не определенный стиль жизни. Это – все вместе. И интеллигенция, как известно, родилась у нас куда раньше определения Боборыкина.
В стране беспощадной азиатской власти, в стране феодальной аристократии, всемогущей бюрократии и бессловесного, нищего кормильца – русского крестьянства интеллигенция с самого начала взяла на себя роль совести.
С криком боли великого русского публициста «я взглянул окрест меня и душа моя страданиями человечества уязвлена стала» родилась наша интеллигенция… «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух, один только воздух», – клеймил дворянство дворянин Радищев.
И стал первым интеллигентом, пострадавшим за печатное слово.
У подножья памятника Петру начинаются мучительные раздумья и битвы нашей интеллигенции: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Запад или Восток, Европа или самобытность, европейский камзол или боярская шуба?
«На битвы выходя святые, мы будем честны меж собой». Через весь XIX век идут жестокие сражения наших западников и славянофилов, не утихающие и поныне.
Этот бесконечный, тщетный, вековой спор!
Много раз писалось, что обязательной чертой истинного интеллигента – является оппозиция власти. Но есть еще одна, на наш взгляд, важнейшая черта.
Истинный интеллигент постоянно размышляет о самых главных вопросах бытия. И это даже не размышление – это его повседневная жизнь, это – быт. При этом он свято верит, что все эти важнейшие вопросы надо решить сейчас же, незамедлительно. Тургенев описывает, как он посетил тяжело больного Белинского. И задыхающийся, стоящий на пороге смерти Белинский тотчас затевает пламенный спор. И конечно же, о вечном. В разгар спора гостя зовут к столу. Тургенев послушно встает, чтобы идти. «Постой, куда же ты, – негодует Белинский, – какой может быть обед, когда мы не решили главного вопроса – есть ли Бог?..
И западник Чаадаев, и славянофил Тютчев до хрипоты и так страстно обсуждали в Английском клубе пути России, что слуги были уверены: они уже дерутся… При этом Тютчев справедливо пояснял: «Человек, с которым я больше всего спорю, это человек, которого я больше всего люблю».
Ознакомительная версия.