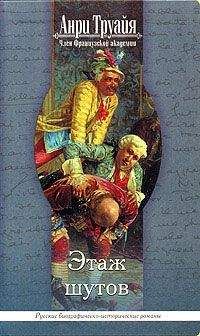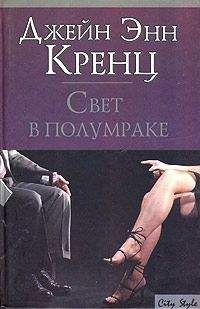Рассказывая так, Гнедич безотчетно скандировал каждую фразу. Все с улыбкой поглядывали то на него, то на Крылова; сам же Крылов, точно речь шла вовсе и не об нем, сидел по-прежнему неподвижно, по временам протягивая руку за стаканом остывшего чая.
— А что, Николай Васильевич, — тихонько обратился тут к Гоголю Плетнев, — не пора ли выступить и вам?
Того как варом обожгло.
— Нет, Петр Александрович, лучше отложим до осени…
— До осени? Ну нет, извините. Господа! — громко возгласил Плетнев. — Вот у Николая Васильевича взята с собой рукопись его талантливого земляка-хохла — пасечника Рудого Панька. Не желаете ли послушать один рассказец?
— И весьма! — подхватил первым Пушкин. — Василий Андреевич, стакан сахарной воды и пару свечей.
Не успел очнуться Гоголь, как сидел уже посреди комнаты за маленьким столиком с двумя восковыми свечами (стеариновых в то время не было еще и в помине).
— Смелей, смелей, — шепнул ему Жуковский, ставя к нему на столик стакан сахарной воды.
Было это не лишне: Гоголь чувствовал, как вся кровь у него отлила к сердцу, и дрожащей рукой он поднес к губам стакан сахарной воды.
— Книгу свою пасечник назвал „Вечера на хуторе близ Диканьки“, — предварил он слушателей; затем откашлянулся и стал читать: — „Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки?» Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник! Слава Богу, еще мало ободрали гусей на перья и тряпья на бумагу, еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах!..
С первых же строк, едва только окунувшись в родную стихию, Гоголь, как рыба в воде, ожил. Куда и робость его делась! Читал он так просто, так естественно, точно и в самом деле говорил это старый пасечник. Когда же среди общего напряженного молчания прорывался на том или другом конце комнаты сдержанный смех, по губам читающего пробегала также усмешка, старик-пасечник лукаво посмеивался в бороду: «Будто уж так смешно? Смейтесь на здоровье, люди добрые!»
Когда он дочел свое предисловие, Пушкин опять-таки первый ударил в ладоши; но Жуковский остановил его:
— Это только присказка, сказка впереди.
По прочтении затем и самой сказки — «Вечер накануне Ивана Купала», чтеца наградили еще более шумные рукоплескания, чем давеча Воейкова.
— Вот, господа, чистая родниковая вода, истинная поэзия! — воскликнул Пушкин.
— Ну какая же это поэзия? Это повседневная проза… — стыдливо пробормотал Гоголь, но сам был так счастлив, о, как счастлив!
— Именно поэзия! — продолжал Пушкин. — Даже предисловие пасечника полно безыскусственной красоты. Настоящий комизм есть прекращенное безобразие и восстановленная красота. При случае вы, пожалуйста, еще кое-что мне прочитайте. Вы где располагаете провести лето?
— В Павловске — на кондициях в одном доме…
— Ну вот, чего же лучше? Из Павловска до Царского рукой подать. Я буду жить там — не забудьте! — по Колпинской на даче Китаевой; Василий Андреевич — в Александровском дворце. По образу пешего хождения можете навещать нас хоть каждый день; милости просим.
Глава восемнадцатая
DONNA SOL
Еще до переезда своего на лето в Павловск Гоголю пришлось познакомиться с молодою фрейлиной Александрой Осиповной Россет, которой суждено было впоследствии найти в нем лучшего друга и первого советчика в вопросах религии и совести.
Хотя ей минул всего двадцать год, но, благодаря ее необыкновенно привлекательной наружности, пленительному обращению, живому уму и многостороннему образованию, она играла уже видную роль как в интимном кружке молодой императрицы, так и в литературном мире: в гостиной ее собирались первые тогдашние литераторы, находившие в ней всегда самую отзывчивую и самую влиятельную защитницу от строгостей цензуры. Она умела ценить, впрочем, не только Байрона и Пушкина, но и Рафаэля и Брюлова, Гайдна и Глинку; изучив генерал-бас, она была также прекрасная музыкантша. Чтобы лучше уразуметь восточное богослужение, поучения Григория Назианского и Иоанна Златоуста, она брала уроки греческого языка; после же урока тотчас отправлялась на дипломатический раут, где беседовала с французским посланником о парижских делах, как старый политик, а вслед за тем перед цветом придворной молодежи рассыпала блестки остроумия.
Как благодатное солнце, всех равно освещающее, она получила от князя Вяземского прозвище Donna Sol, по имени главного действующего лица в драме Виктора Гюго «Эрнани». Но у нее было, кроме того, несколько не менее лестных наименований: тот же Вяземский титуловал ее еще «мадам Фонвизин» и Ласточкой, Жуковский — вечною принцессой и небесным дьяволенком, Мятлев — Пэри и Колибри, Хомяков — Девой Розой, Глинка — Инезильей. При дворе же она, брюнетка, была известна более под именем Саши Черненькой, в отличие от другой фрейлины, Александры Эйлер, блондинки, Саши Беленькой, как называла их маленькая княжна Александра Николаевна.
Обо всем этом Гоголь слышал еще зимою у Жуковского и Плетнева, как и о том, что в жилах Россет не было ни капли русской крови[41], но что она провела свое раннее детство в Малороссии, воспитывалась в Екатерининском институте и в душе была настоящей русской.
И вот однажды, в мае месяце, когда он только что давал (по собственным его словам) «прескучный» урок в доме Балабиных и его «бедная ученица зевала», совершенно неожиданно вошла к ним Россет.
— А я пришла проститься с тобой, Мари: послезавтра мы с императрицей переезжаем в Царское, — объявила Александра Осиповна, с любопытством оглядывая учителя-хохла, о таланте которого наслышалась также от его двух покровителей.
Но Гоголь показался ей таким «неловким, робким и печальным», что она оставила его на этот раз в покое. Зато на другой же день по записке Плетнева он был вытребован к половине седьмого вечера к Жуковскому; когда же явился туда, то застал там, кроме Плетнева, еще и Пушкина, который встретил его со смехом:
— Попался, пасечник! Я всегда ведь говорил, что женщины дипломатичнее нашего брата. Пожалуйте-ка теперь с нами.
— Куда? — перепугался Гоголь.
— Очень недалеко: до фрейлинского коридора.
— Но к кому? Неужели…
— К донне Sol? Именно. Она видела вас вчера у Балабиных.
— И взяла с нас слово привести к ней земляка сегодня же во что бы то ни стало, потому что завтра уж перебирается в Царское, — пояснил Жуковский.
— Причем сама подала мысль — не говорить вам вперед, для чего вас вызывают… — добавил Плетнев.
— Потому что знала, что вы упрямый хохол, — заключил Пушкин.