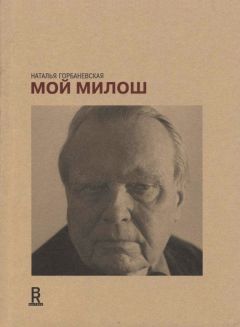IV. Природа
Отворяется сад природы.
На пороге трава зеленеет.
Зацветает миндаль.
Sint mihi Dei Acherontis propitii!
Valeat numen triplex Jehovae!
Ignis, aeris, aquae, terras spiritus,
Salvete! – гость говорит.
Живет у яблони в хоромах Ариэль,
Но не придет дрожать крылом осиным.
И Мефистофель, нарядясь аббатом
Доминиканским или францисканским,
С тутовника не спрыгнет в пентаграмму,
Начерченную тростью на дорожке.
Но в розовых молчащих колокольцах
Взбирается на скалы рододендрон.
Колибри, как воздушная юла,
Повисла – сердце сильное движенья.
Коричневою капелькой потеет
На терние насаженный кузнечик,
Не ведая ни пыток, ни закона.
Что делать тут тому, кого зовут
Верховным чудищем и чудодеем,
Сократом слизняков, судьею иволг
И музыкантом вишен, – человеку?
Способна выжить индивидуальность
В картинах, в статуях – в стихии гибнет.
Сопровождать ему гроба лесничих,
Которых скинул горный черт, козел
С кольцом рогов над выгнутым загривком.
На кладбище гарпунщиков ходить:
Копье вбивая в плоть левиафана,
Они в жиру кишок секрет искали —
Энергия, остыв, волной вскипала.
Распутывать загадки докторов
Алхимии: они почти достигли
Разгадки, то есть власти, и исчезли
Без рук, без глаз, да и без эликсира.
Тут солнце. Тот же, кто поверил с детства,
Что акт и действие понять довольно
И повторяемость вещей порвется, —
Унижен и в чужой сгнивает коже.
Ошеломленный бабочкою яркой,
Он чужд искусству, безъязык, бесформен.
Я вёсла обвернул, чтоб не скрипели
В уключинах. А от Скалистых Гор,
Небраски и Невады шли потемки,
Заглатывая лес материка.
Отражены предгрозовые тучи,
Пролеты цапли, и торфяник топкий,
И черный сухостой. За лодкой следом
Вновь строила утопия мошки´
Сияющие своды. Погружалась
Тень лилии под борт, прошелестев.
Чем ближе ночь, тем пепельней тона.
Играйте, музыканты, но не громче,
Чем ход часов. Я жду своей минуты.
Моя столица на бобровых гонах.
Вся в бороздах озерная вода,
Ее вспахал чернильный месяц зверя,
Взошедший ввысь из пузырьков метана.
Нематерьяльным быть мне не дано.
Мне не глядеть таким бесплотным взглядом.
И мой звериный дух гудит сиреной,
Сияет радугою, спугивает зверя.
Плеснулось эхо.
Но остался я
В высокой, мягкой бархатной укладке
И властвую над тем, что захватил:
Над шлепаньем четверопалых лап,
Над отряханьем шубки в коридоре.
Не знает он ни времени, ни смерти,
Я – выше: я-то знаю, что умру.
Я помню всё: ту базельскую свадьбу.
Струна виолы вздрагивает. Фрукты
На серебре. И опрокинут кубок
На шестерых, как принято в Савойе,
Вином текущий. Язычки свечей
Неверны, шатки в дуновеньи с Рейна.
С белеющими косточками пальцы
Запутывались в петлях и крючках.
Упало платье шелковой скорлупкой
С ядреного литого живота.
На шее цепь звенела вне эпохи,
В колодцах, где со ржою завещаний
Рыжь кесарей сплелась и птичий крик.
А может, это за семью морями
Одна любовь моя. Навязчивой идеей
Нечистою закрыт туда мне доступ.
А ставень и собаки на снегу,
Свист паровоза и сова на ели
Исчезнут из припоминаний ложных,
И вымолвит трава: да было ль это?
Плеснет бобер в ночи американской,
И вот уж память больше целой жизни.
Еще звенит луженая тарелка
На выщербленном каменном полу.
Таис, Белинда, юная Джульетта
Шерстистое под лентой прячут лоно.
Принцессам – вечный сон под тамариском.
В их крашеные веки бил самум,
Пока не свили тело кушаками,
Пока пшеница в склепе не уснула,
Не смолкли камни и осталась жалость.
Вечор шоссе змея перебегала.
Вилась, помята шиной, на асфальте.
А мы – мы и змея, и колесо.
Два измеренья есть. Тут, на границе
Не-жизни с жизнью, правда существа
Непостижимая. Сошлись прямые.
Два времени над временем скрестились.
Без языка, без формы ужаснется
Он перед бабочкою – он, непостижимый.
Чтó бабочка, оставшись без Джульетты?
И чтó Джульетта без ее пыльцы
На животе литом, в глазах и косах?
Ты скажешь – царство? Мы в него не входим,
Хоть и не можем выйти из него.
Надолго ли еще достанет мне
Абсурда польского с поэзией аффектов,
Не полностью вменяемой? Хотел бы
Я не поэзии, но дикции иной.
Одна она даст выраженье новой
Чувствительности, что спасла бы нас
И от закона, что не наш закон,
И от необходимости не нашей,
Хотя б ее мы нашей называли.
Из лат разбитых, из глазниц пустых,
Приказом времени обратно взятых
В распоряженье плесени и гнили,
Растет надежда: воедино слить
Бобровый мех и камышовый запах,
Ладонь, что опрокидывает кубок,
Вином текущий. И к чему же крики,
Что историчность суть уничтожает,
Когда она-то и дана нам, Муза
Седого Геродота, как оружье
И инструмент? Хоть не всегда легко
Использовать ее и так усилить,
Что снова, словно золото в свинце,
Она послужит людям во спасенье.
Так размышляя, в центре континента
Я греб во тьме сквозь вязкую осоку,
Воображая оба океана
И качку фонарей сторожевых
Судов и зная, что не только я
Нашел зерно неназванного завтра.
И в такт тогда слагался вызов, чуждый
Для шелестящей шелковой ночнянки:
О Общество, о Город, о Столица!
Раствóренным зияя дымным чревом,
Ты не накормишь нас своим напевом.
Чем ты была, тому не воротиться.
Ты слишком предалась самодержавью
Бетона, стали, пакта и закона.
Ты нам была пример и оборона.
Для нас росла и в славе, и в бесславьи.
Где оказался наш союз разорван?
В огнях войны, во вспышках звезд падучих
Иль в сумерки, в пустыне рельсов, в тучах,
Когда бежали башни с горизонтом.
И хмуро вглядывалось в отраженье
Лицо девичье узкое, и чёток
Был ленты взмах над чащей папильоток
В окне, под паровозное круженье?
Твоя стена – теней стеною стала.
Твой свет угас. Не монумент надменный
Под солнцем изменившейся вселенной,
Но наших рук созданье устояло.
Сквозь ширмы, занавески, позолоту,
Прорвав портреты, зеркала и стены,
Выходит человек, нагой и смертный,
Готовый к правде, к речи и к полету.
Приказывай, Республика. До слёз
Испробуй все свое очарованье.
Но он идет, как стрелка часовая.
И смерть твою уже с собой принес.
Я шел по лесу, вёсла на плече.
Мне вслед зафыркал дикобраз из сучьев.
Присутствовал и филин, мой знакомый,
Эпохе неподвластный и пространству,
Всё тот же самый Bubo из Линнея.
Америка моя – в мехах енота,
С его глазами в черных ободках.
Бурундучком в валежнике мелькает,
Где повитель над черною землею
Свила лириодендрона стволы.
Ее крыло – окраски кардинала.
Клюв приоткрытый – как из-под куста
Шипит, в парý купаясь, пересмешник.
Стеблистость мокасиновой змеи,
Переправляющейся через реку.
Она гремучкой под цветами юкки
Совьется в груду крапинок и пятен.
Америка мне стала продолженьем
Преданий детства о глубинах чащи,
Повествовавшихся под пенье прялки.
И, заводя square-dance’а хоровод,
Играют скрипки, как в Литве играли.
Моя танцóвщица – Бируте Свенсон,
Из Ковно родом, замужем за шведом.
И тут ночная бабочка на свет
Влетает, в две ладони шириною
И глянцево-прозрачно-изумрудна.
А почему бы нам не поселиться
В природе, пламенистой, как неон?
Не задает ли нам работы осень,
Зима, весна и мучащее лето?
Нам не расскажут воды Делавара
Ни о дворе блестящем Сигизмунда,
Ни об «Отъезде греческих послов».[24]
И, не разрезан, Геродот пылится.
И только роза, символ сексуальный,
Она же символ неземной любви,
Откроет неизведанные бездны.
О ней-то мы во сне напев услышим:
В глубинах розы есть дома златые,
Ручьи льдяные, черные протоки.
Персты рассвета на вершинах Альп,
А вечер с пальм стекает на заливы.
А если кто умрет в глубинах розы,
То вереница веемых плащей
Дорогой пурпурной несет его с горы,
Дымятся факелы в пещерах лепестков,
И будет он схоронен в недоступной
Завязи цвета, у истока вздоха,
В глубинах розы.
Пусть месяцев названья то и значат,
Что значат. Да ни в коем залп «Авроры»
Не длится. И ночной бросок хорунжих[25]
Ни одного не заразит. На память
Пускай хранится, как в шкатулке веер.
И почему бы на столе дощатом
Нам не писать по-старосветски оды
И славить звездный календарь, сгоняя
Жука с бумаги кончиком пера?
О октябрь!
Ты мое истинное наслажденье.
О месяц клюквы и кленов багряных,
Гусей, летящих в воздухе чистом с Гудзонова залива,
Сохнущей повилики и увядающих трав.
О октябрь.
О октябрь!
В тебе живет тишина дорог, устланных хвоей,
И причитанья собак, напавших на след.
И в тебе же игра на пищалке из совиного крылышка
И трепыханье птицы, еще не упавшей в бор.
О октябрь.
О октябрь!
Ты инеем белым сверкаешь на шпагах,
Когда за Вест-Пойнтом, с поросшей вьюнком скалы
Польский артиллерист[26] зрит многоцветную чащу
И кафтаны кленовые английских солдат,
Пробирающихся по тропе Аппалачей.
О октябрь.
О октябрь!
Холодно твое хрустальное вино.
Терпок вкус твоих губ под рябиновым ожерельем.
На твоих задыхающихся боках
Пепельная шкура горного оленя.
О октябрь.
О октябрь!
Росою осыпающий ржавые следы,
В буйволовый рог трубящий над привалом повстанцев,
Босую стопу обжигающий на покатой меже,
Где клубится картофельный и пушечный дым.
О октябрь.
О октябрь!
Ты пора поэзии, то есть полной решимости
В любое мгновение жизнь начать сначала.
Ты даешь мне волшебное кольцо, и, повернуто,
Оно светит вниз никому не видимым бриллиантом свободы.
О октябрь.
Нам многое, да, многое припомнят.
Отвергли мы спокойствие молчанья,
Достойных уваженья размышлений
О мировых структурах. Вечной теме
И чистоте мы были неверны.
И хуже – пыль событий и имен
Мы что ни день словами ворошили,
Тревожась мало, что она угаснет
Мильоном искр, и вместе с нею мы.
Даже бесславье, принятое нами,
Как будто было умысла не чуждо,
И нехотя, но мы платили цену.
Когда себя ты знаешь – признаёшься,
Что был как тот, кто слышит голоса,
Не разбирая слов. Отсюда злость,
Подошва, выжимающая скорость,
Как будто можно от галлюцинаций
Бежать. Свою незримую веревку
Влачили мы, гарпун спиною чуя.
И всё же обвинители ошиблись,
Печальники о зле эпохи нашей,
Принявши нас за ангелов, что в бездну
Низвергнуты и там, из этой бездны,
Грозятся кулаком делам Господним.
Да, многие сошли на нет бесславно,
Открывши относительность и время,
Как химию неграмотный открыл бы.
Другим – одна обкатанная галька,
Подобранная около реки,
Дала урок. Достаточно мгновенья,
Набухших кровью окуньковых жабр,
Пропаханной бобровой борозды
По спящей тоне, под безлунным небом.
Ведь созерцанье без отпора гаснет —
Его и сам отвергнет созерцатель.
А мы – наверно, были мы счастливей,
Чем те, кто в Шопенгауэра книгах
Печали черпал, слушая в мансарде
Назойливые отзвуки шантана.
И философия, поэзия, деянье
Нам не были, как им, разделены,
В одну сливаясь – волю? иль неволю?
Подчас горька, а все-таки награда.
Пусть, заблудясь, в истории застряв,
Не обретем венца и вечной славы.
Ну так и что? У них и мавзолеи,
И памятники, но в осенний дождик
Для юной пары под одним плащом
Их совершенство ничего не значит.
А слово, что останется, – осталось
Воспоминаньем приоткрытых губ:
Хотели вымолвить, да не поспели.
О духи воздуха, огня, воды,
Пребудьте с нами, но не слишком близко.
Винт корабля от вас уж отдалился.
Проходим зону чайки и дельфина.
И ожиданье, что Нептун с трезубцем
И нереидами всплывет из пены,
Напрасным было. Только океан
Кипит и повторяет: тщетно, тщетно.
Тщета могущественна. Ей противясь,
Мы размышляем о костях корсаров,
О губернаторских бровях атласных,
Что краб прогрыз, до мяса добираясь.
Уж лучше крепко в поручни вцепиться
И в тяжком духе мыла, краски, лака
Найти подмогу. В скрежете заклепок
Плывут безумье наше и неясность,
И вера тайная, и тайный грех,
И лица павших вдалеке от дома.
На остров счастья? Нет. Ни я, ни ты
Не внемлем строк Горация за вихрем.
С изрезанной, скрипучей школьной парты
Нас в пустоте соленой не нагонит:
I am Cytherea choros ducit Venus imminente luna!
1956, Бри-Конт-Робер