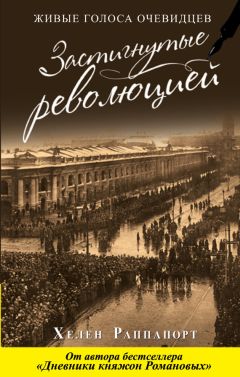Сэр Джордж Бьюкенен какое-то время рассматривал возможность перенести посольство в более удобное здание, однако начавшаяся в 1914 году война поставила крест на этих амбициозных планах. Хотя посольство, возможно, казалось весьма фешенебельным и просторным, у него тем не менее был ряд изъянов. Так, система канализации устарела и нуждалась в существенной реконструкции и постоянном ремонте. Кроме того, требовался многочисленный персонал для поддержания в порядке его залов для приемов и церемоний в стиле барокко, помещений его «канцелярии», расположенных на первом этаже, а также (двумя витками винтовой лестницы выше) танцевального зала и большой столовой, которые использовались для крупных официальных мероприятий. Незаменимому на этом посту английскому дворецкому, Уильяму, оказывали помощь многочисленные лакеи, горничные и итальянский шеф-повар, а также множество русских, занятых в повседневных заботах по дому и обеспечивавших кухню{13}. Бьюкенены привезли с собой легковой автомобиль и своего собственного шофера-англичанина, наряду с этим они также содержали кареты и сани и русского извозчика для них.
Сэра Джорджа Бьюкенена, который являлся не только центральной фигурой в собственном посольстве, но и признанным дуайеном дипломатического корпуса в Петрограде, высоко оценивали как русские, так и иностранцы. Те, кто работал вместе с ним, испытывали к нему чувство преданности, если не поклонение. Он был для них почти героем. Сэр Джордж Бьюкенен являлся образцовым дипломатом-джентльменом: аскет, выпускник Итонского колледжа в монокле, сын сэра Эндрю Бьюкенена (также дипломата, служившего в британском посольстве в Санкт-Петербурге), человек чести в изначальном смысле этого слова. Высокий, худощавый, учтивый, Бьюкенен был настоящим исследователем и хорошим лингвистом (хотя он не говорил на русском), широко начитанным человеком, который втайне любил детективы и наслаждался неприхотливой игрой в бридж. Его «невозмутимая безмятежность» и педантизм иногда могли быть неверно истолкованы как чрезмерная строгость, и некоторых его сотрудников сбивали с толку его «обескураживающее простодушие» и немного декадентская рассеянность. «Он был вежлив как при игре в бридж, так и во всем остальном, но было такое впечатление, что он пребывал в мечтах и не осознавал, играл ли он в бридж или в игру “Счастливая семейка”[11]», – вспоминал один из его сотрудников{14}.
Но не было никаких сомнений относительно скромности Бьюкенена и (когда для проявления этого качества пришло время) его смелости, а также относительно его непоколебимой преданности своим коллегам по дипломатической службе. Всем, кто работал с ним в эти последние дни агонизировавшей царской России, было совершенно ясно, что сэр Джордж Бьюкенен к этому времени был болен. Его слабое здоровье, подорванное безграничной преданностью долгу и возросшей нагрузкой во время войны, еще больше ухудшилось в связи с его обеспокоенностью шатким положением царя и растущей угрозой революции[12]. Хотя сэру Джорджу Бьюкенену иногда удавалось съездить на рыбалку в Финляндию или поиграть в гольф в Мурино, к концу 1916 года он, по выражению британского дипломата Роберта Брюса Локхарта, производил впечатление «болезненного человека с усталым, грустным выражением на лице». Однако он стал узнаваемой и уважаемой фигурой на улицах столицы, и, «когда он совершал свой ежедневный визит в Министерство иностранных дел Российской империи, с шляпой чуть набекрень и высокой, худощавой фигурой, слегка поникшей от груза многочисленных забот, каждый англичанин осознавал, что территория его посольства, ни много ни мало, является частью территории Великобритании»{15}.
Если порой сэр Джордж Бьюкенен, казалось, сникал, его энергичная жена придавала ему новые силы. Леди Джорджина, урожденная Батерст, сама была из числа людей «королевских кровей». «Как знает каждый британец, – язвительно заметил в этой связи Негли Фарсон, – существуют только три семьи: Святое семейство, королевская семья – и Батерсты»{16}. Леди Джорджина являлась представительной женщиной, чье «сердце было пропорционально ее массе», а ее рвущаяся наружу энергия была сопоставима с ее мнением, которое являлось бесспорным и высказывалось громогласно. Она была «несдержанна и обидчива: щедрый друг, но опасный враг», как обнаружили некоторые из окружавших ее женщин в британской колонии. Она «руководила дюжиной комитетов и ссорилась со всеми». Она управляла внутренней жизнью посольства, «как по нотам», и «никогда не изменяла своей страсти к пунктуальности, которая у самого посла доходила до одержимости»{17}. С 1914 года леди Джорджина принялась за исполнение дел, связанных с начавшейся войной. Она реквизировала танцевальный зал посольства и заставила его длинными столами, загруженными ватой, пухом и тканями; здесь она дважды в неделю устраивала курсы кройки и шитья. Приходившие сюда дамы из британской колонии «сворачивали марлевые бинты, шили жилетки-«душегрейки» для больных воспалением легких, готовили всевозможные перевязочные материалы для оказания первой помощи, шили больничные пижамы, медицинские куртки и халаты» – некоторые для отправки раненым на фронт, остальные для использования в госпитале британской колонии в Петрограде для раненых русских солдат. Расположенный в крыле большой Покровской больницы на Васильевском острове, этот госпиталь стал вотчиной леди Бьюкенен, организовавшей его вскоре после начала войны. Ее дочь Мэриэл также работала там в качестве сестры милосердия{18}.
После того как Россия в 1914 году вступила в войну, уже сложившаяся в Петрограде к тому времени диаспора пополнилась новой, более дерзкой породой американцев: инженерами и предпринимателями, занимавшимися поставками военной техники, промышленной продукции и боеприпасов. Американцы из компаний «Интернэшнл харвестер» (производитель сельскохозяйственной техники), «Вестингауз» (в течение нескольких лет принимала участие в электрификации трамваев Петрограда) и «Зингер сьюинг машин компани» (начала поставлять в Россию первые швейные машинки в 1865 году) соседствовали на улицах города со своими земляками, прибывшими из Нью-Йорка, чтобы организовать в Петрограде филиалы Государственного муниципального банка Нью-Йорка и Нью-Йоркской компании по страхованию жизни, не говоря уже об американских сотрудниках Юношеской христианской ассоциации, которые создали здесь в 1900 году русский аналог этой структуры – общество «Маяк». В апреле 1916 года дипломатический корпус в Петрограде приветствовал нового американского посла после того, как прежний посол Джордж Мари неожиданно подал в отставку – якобы по причине плохого здоровья. По слухам, его негласно вынудил к этому шагу Государственный департамент, который считал его слишком пророссийски настроенным в то время, когда США все еще сохраняли нейтралитет в продолжавшейся войне.
Преемником Джорджа Мари оказался самый маловероятный из кандидатов. Общительный и добродушный демократ от штата Кентукки, Дэвид Роуленд Фрэнсис, сколотил себе миллионное состояние в Сент-Луисе за счет сделок с зерном и инвестиций в железнодорожные компании. Он был губернатором штата Миссури (1889–1993 гг.) и лоббировал проведение в 1904 году в Сент-Луисе весьма успешной Луизианской ярмарки (более известной как всемирная выставка в Сент-Луисе), а также в том же году – летних Олимпийских игр. Однако у него не было никакого опыта посольской работы, хотя в 1914 году его кандидатура была предложена на пост посла в Буэнос-Айресе – но отклонена. Однако выбор Дэвида Фрэнсиса в качестве посла в Петрограде казался логичным: его несомненная деловая хватка должна была помочь перезаключить договор о торговле и навигации между США и Россией, который в декабре 1912 года был денонсирован американской стороной в ответ на антисемитскую политику царской России[13]. Дэвиду Фрэнсису было хорошо известно, что Россия была готова закупать американское зерно, хлопок и вооружение.
21 апреля (по НС; 8 апреля – по СС) 1916 года Дэвид Фрэнсис отплыл из портового города Хобокен в штате Нью-Джерси на шведском пароходе «Оскар II» вместе со своим личным секретарем Артуром Дэйли и преданным чернокожим камердинером и шофером Филипом Джорданом. Его жена Джейн осталась дома в Сент-Луисе ухаживать за шестью сыновьями, поскольку у нее было плохое здоровье и страх перед легендарными суровыми российскими зимами. Дэвид Фрэнсис не настаивал на том, чтобы она сопровождала его, хорошо зная, что его жене в Петрограде «не понравится»{19}. В ее отсутствие и без того не слишком общительный и «социальный» (как и его коллега Бьюкенен, он не говорил на русском), Дэвид Фрэнсис весьма сильно полагался на защиту «Фила», как он любил называть того: он уважал этого человека как «верного, честного, умелого и к тому же умного»{20}.