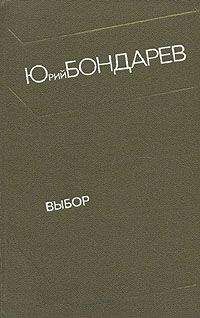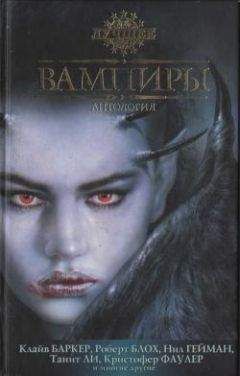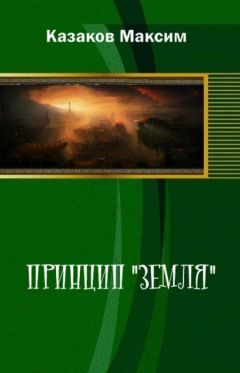— Не хочу, Саша, никуда, — сказал Васильев.
Он вспомнил позапрошлогоднюю поездку в Новгородскую область, поездку внезапную, зимнюю, тоже ночную, мысль о которой родилась в «Арагви», когда обмывали вторую премию Васильева, поездку вынужденную, не совсем трезвую, равную бегству от утомительной московской суеты, праздной нервозности, связанной с телефонными звонками, поздравительными телеграммами, письмами, бесконечными забегами в мастерскую целых компаний художников с несомненной целью и поздравить и выпить. Вот тогда и возникла надежда на спасительный уход в тишину, скрипучий снег, чистый морозный воздух, пахнущий древностью, заиндевелым деревом, сладким покоем и прочностью белого камня, вынужденное бегство от разгульного сумасшествия в милую русскую зиму.
«Бегство, бегство, все время я куда-то бегу. Куда? — подумал Васильев, морщась. — И сейчас бесцеремонно пришел к Александру, зная, что он простит мне все, взбаламутил его и себя…»
— Так взять мне, Володя, на всякий случай чемоданчик? — серьезно спросил Лопатин и выдернул из-за груды книг потертый полусаквояж, полупортфель, показал его Васильеву. — Тот самый, с которым мы ездили. Белье, вино, зубные щетки, бритва… Остальное покупается на месте.
— Никуда не хочу, Саша. Даже в Замоскворечье. Никуда, Саша… — сказал вдруг хриплым голосом Васильев и откинулся на диване с выражением предельной, почти обморочной усталости.
И Лопатин ядовито вскричал, вздергивая плечами:
— Вот-те раз! Как «никуда»? Совсем никуда? — Он хохотнул раскатисто. Какого хрена ты заставил меня одеться в походную робу? Семь пятниц на неделе, искуситель ты несуразный!
— Сейчас хочу побыть у тебя немного, — сказал Васильев, закрывая глаза. — Я соскучился по тебе. Мы долго не виделись. А я устал что-то очень.
Лопатин без единого слова отбросил полусаквояж в угол, после чего сел с неопределенным кряхтеньем на кипу связанных веревочкой старых газет и сказал наконец:
— Не видел я тебя вроде бы месяца полтора. Так вроде? Как ты, Володенька, поживаешь в последнее время?
— Слава богу, не дай бог, — ответил Васильев, открыл глаза, засмеялся и потянул из пачки на столе сигарету. — «Дукат» я когда-то курил в студенческие годы. Дешево и зло. Не сигареты, а горлодеры.
— Не работал, Володя?
— Нет.
— Что так?
— Не работается, Саша. Уже давно. То есть мазал немного, но все не то…
— В связи с этим восторга не испытываю и в воздух чепчик не бросаю! Не хочется и лень или искорки нет?
— И то и другое, Саша. И даже третье… Об этом не хочу. Лучше покурим твой студенческий горлодер…
— Ладно, я замолкаю. Давай-ка лучше покурим, если не хочешь выпить. А дома как?
— Слава богу…
— Не дай бог, — договорил тоном усмешки Лопатин и, вроде отрезая необязательный разговор, не требующий никакого умственного усилия обоих, спросил строго: — Можешь, конечно, Володя, послать меня подальше, но ответь на один вопрос: ты не болен? Нет?
— Я не болен, — сказал Васильев и со сморщенным лицом потер лоб. — Хотя никто не знает, кто болен: он сам или тот, кого принимает за больного. Вот, например, с точки зрения вашей лифтерши, ты, конечно, псих и анормальный тип: бородища разбойничья, по дому и даже за газетами ходит босиком, курит вонючие сигареты и к тому же бездельник, тунеядец, ибо каждое утро на работу не ездит. Как? Не точно, скажешь? А, расхотелось…
Он не закурил, вложил сигарету обратно в пачку и, готовый, казалось, превесело улыбнуться, не улыбнулся, а, чуть хмурясь, вытянулся поудобнее, скрестил на груди руки и, было похоже, хотел задремать здесь, на этом удобном теплом диване, в зеленом свете настольной лампы, среди уютного книжного хаоса, в квартире-мастерской Лопатина, под гулкие налетающие удары метели за окном.
Лопатин легонько теребил, разлохмачивал бороду, из дебрей ее торчала зажженная сигарета, с тревожной нежностью глядел на Васильева, будто нисколько не осуждая его за непоследовательность, но намеренный понять до конца, что хочет он, что ждать от него в следующую минуту, и Васильев не без раздражения почувствовал это наблюдающее внимание, и морщинка возле губ передернула его лицо.
— Ответь, Саша, — проговорил медленно Васильев, — тебе знакомо чувство ревности? Не анахронизм оно, а? Правда, глупый вопрос?..
— Названное тобою чувство знакомо всем, — иронически ответил Лопатин и подул сигаретным дымом на зеленый колпак настольной лампы. — Она, то есть ревность, не имеет ни пола, ни возраста, но часто вводит иных людей, охваченных ею, в порывы гневного возмездия и аффекта, смотри Отелло и сотни судебных дел об убийстве жен и мужей, а иных — в зубную боль, в депрессию, в состояние нечеловеческой муки, что хуже всякой пытки, ибо конца ей нет. Какова причина вопроса, Володя?
— Я тебя спрашиваю — тебе знакомо? — повторил Васильев и, приподнимаясь на локте, всмотрелся в лицо Лопатина. — Лично тебе? Ты же был женат на красивой женщине в конце концов.
— Мою бывшую жену я сперва абсолютно не ревновал. До тех пор, пока она не стала ночевать у так называемых подруг… Ну, тут я познал страдания ревнивца, и тут я готов был убить всех этих подруг и себя. Я рычал в бессилии, как стареющий лев, и метался по городу в поисках ее!.. Идиотическое было время! Но она — особ статья. Елена была просто милая пресыщенная потаскушка. Сейчас я свободен, дружище, понимаешь ли ты. Свободен от женщин и любви, а значит, и от ревности. Брак, Володя, мешал мне, как… пудовые кандалы, как гири на ногах. Надо полагать, я не создан для семейных сантиментов. Для меня была сущая каторга: капризы, упреки, обязанности супруга, и не то сделал, не то купил, выпил лишнюю рюмку, обкурил, понимаешь ли ты, всю квартиру и тому подобные воспитательные удобства и бытовые детали.
— Я ревную ее, наверно, — очень тихо сказал Васильев, слушая и в то же время совсем не слушая Лопатина, и, заложив руки за голову, договорил неестественно спокойным голосом: — Это и есть медленная пытка, Саша…
— Не преувеличиваешь ли ты? — Лопатин удивленно не то застонал, не то замычал и, подавляя эти невнятные звуки кашлем, гулко спросил: — И давно?
— Что давно?
— Ну… твоя пытка началась? Когда почувствовал… эти самые симптомы?
— Спрашиваешь, как будто врач.
— Как твой друг.
— Я почувствовал это в Венеции. Почему в Венеции — объяснить не могу. Впрочем, там многое произошло, Саша. Со мной. И с нею. Нет, ничего не случилось. Все как было. Но что-то произошло…
— Можешь не слушать меня, дурака глупого, но понять тебя трудно, Володя.
— А ты думаешь, я все понимаю?