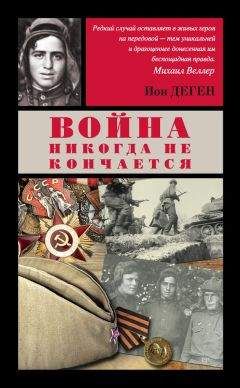Тетка Параска растопила печь. Ни лампы, ни свечи не зажгли. Вскоре в этом уже не было необходимости. Серело. Григоруки поставили посреди хаты деревянную бадью и наполнили ее теплой водой. Дядько Фэдор велел мне раздеться. Я мялся, не представляя себе, как я могу раздеться в присутствии женщины. Но тетка Параска деликатно отвернулась, и я залез в бадью. Еще до этого Фэдор разрезал бинт, превратившийся в веревку. Он только свистнул, увидев раны. А еще он увидел, что я еврей. Если только до этого у него были сомнения. Параска вытащила из печи глечик с мясом и картошкой. В жизни своей я не ел ничего более вкусного! И краюха хлеба, отрезанная Фэдором, была лучше самых изысканных деликатесов.
В селе стоял небольшой немецкий гарнизон. Немцы всюду искали коммунистов и евреев. Никто точно не знал, где фронт. Ходили слухи, что немцы уже взяли Полтаву. А может, не взяли. Кто знает?
Дядько Фэдор был еще призывного возраста. Ему едва перевалило за сорок. Но из-за какого-то легочного заболевания призывная комиссия забраковала его. Из мужчин в селе остались только дети и старики. Правда, несколько дизертиров на днях вернулись в село. Говорили, что ушли из плена. Кто его знает?
Параска испекла в печи большую луковицу, разрезала ее пополам и приложила к ранам, укрепив половинки чистой белой тряпкой. С помощью Фэдора по приставной лестнице я взобрался на горище {чердак (укр.)}
На душистое свежее сено постелили рядно. Я лег на негo и тут же провалился в сон.
Когда я проснулся, сквозь щели в стрехе пробивались солнечные лучи.
- Дытынку мое, ты проспав билыне добы {cутки (укр.)}, - с удивлением
сказала Параска. - Я вже думала, що, може, що трапылось. Алэ Фэдько нэ дозволыв мени тэбэ чипаты.
Странно было слышать, что я проспал более суток. Мне показалось, что только что уснул. Я был голоден. Но меня уже ждана крынка молока и огромная краюха хлеба.
Григоруки снова перевязали меня. По-моему, раны выглядели не так угрожающе.
Григоруки успокоили меня, сказав, что ни одна живая душа в селе не знает о моем существовании. Завтра под вечер, сказал Фэдор, он отвезет меня к своему куму. Это километров двадцать-двадцать пять к востоку от их села, от Грушевки.
За двое суток я привязался к Григорукам. Мне нравилось у них все, даже то, как они говорили. Их украинский язык отличался от того, какой я привык слышать с детства. У них было мягкое "Л". Правда, еще во втором или в третьем классе мы тоже читали "плян, лямпа, клясс". Но потом "я" заменили на "а". Нам объяснили, что националисты, враги народа, стараются вбить клин между русскими и украинцами. Я не знал, что значит националисты, но ненавидеть врагов народа меня уже научили.
Вечером Григоруки помогли мне спуститься по наружной лестнице к сараю. Я настороженно ловил каждый звук. В селе было тихо. Корова жевала жвачку. Лошадь, переступая, шлепала копытами по луже, единственной среди двора, уже подсохшего после дождей. Мне очень хотелось попрощаться с Сирком, но Фэдор опасался, что меня могут увидеть возле его дома. На мне уже была гражданская одежда. И возраст мой был еще не армейский. Но вдруг во мне разглядят еврея.
Я не помню кума. Не помню еще четырех или пяти славных украинцев, которые, рискуя жизнью, передавали меня, как эстафету, с подводы на подводу, простых селян, которые давали приют в своих хатах, кормили и перевязывали меня. Виноват. Я не помню никого, кроме Параски и Фэдора Григорука из села Грушевки Полтавской области. И Сирка.
Я не помню, где и когда мы пересекли линию фронта. Из густого тумана едва проступают первые дни в полевом госпитале и эвакуация в тыл.
Но в госпитале на Урале, и потом на фронте, и снова в госпитале, уже в Азербайжане, и снова на фронте, и в госпиталях после последнего ранения, и в институте доброе тепло наполняло мое сердце, когда я вспоминал Григоруков.
Мне очень хотелось увидеть их и выразить им свою неиссякаемую благодарность. Но я был студентом, бедным, как церковная крыса. Мне было стыдно явиться к ним с пустыми руками.
В 1947 году мне вдруг открылось, что я вовсе не гражданин великого и могучего Советского Союза, а безродный космополит. Нет, никто мне прямо не указал на это. У меня даже не было псевдонима, скрывавшего еврейскую фамилию. Я еще не успел причинить вреда своей стране на идеологическом фронте. Но тем не менее я ощущал себя очень неуютно только потому, что моими родителями были евреи.
Как-то ночью, когда боль в рубцах не давала мне уснуть, я закрыл глаза и построил мой первый взвод, мальчиков из двух девятых классов. Со мной тридцать один человек. Удивительная получилась перекличка. Двадцать восемь евреев и три украинца. В живых остались четверо. Из украинцев - только один. Из двадцати восьми евреев - трое. То ли усилилась боль в рубцах, то ли новая боль наслоилась, но уснуть мне не удалось.
Что-то оборвалось во мне после этой ночи. Стал выветриваться из меня пролетарский интернационализм, на котором я был вскормлен. С подозрением я относился к неевреям, на каждом шагу ожидая от них неприязни. Я стеснялся самого себя. Стыдно, что во мне могла произойти такая метаморфоза. Я понимал, что необходимо вытравить из себя эту патологическую подозрительность. Для этого надо встречаться с людьми, порядочность которых вне сомнений.
Я почувствовал непреодолимую потребность встретиться с Григоруками.
Летом 1949 года, во время каникул, я поехал в Грушевку, Полтавской области.
Я смотрел в окно вагона, когда по мосту из Крюкова в Кременчуг поезд пересекал Днепр, и с недоверием вопрошал: неужели шестнадцатилетний мальчик, раненый, девятнадцать дней без медицинской помощи и почти без пищи, ночью, в дождь, смог преодолеть эту водную ширь? Сейчас, днем, летом, достаточно сильный, я бы не решился на это.
Из Кременчуга я направился на север вдоль Днепра. На месте бывшей Грушевки я нашел развалины, поросшие бурьяном. Кто разрушил Грушевку? Немцы? Красная армия? Какая разница. Я не нашел Григоруков.
1988 г.
ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ"
Даже Степан называл своего командира мальцом. Чего уж требовать от других? Семнадцатилетнему командиру разведчиком было обидно. В дивизион бронепоездов он добровольно пришел после ранения. Единственный награжденный во всем подразделении - медаль "За отвагу". По-правде, награду заслужили все сорок четыре человека, и его разведчики и пехотинцы, которыми пополнили отряд. За такое дело другим дали бы звание Героя. Выстоять на перевале против "эдельвейсов", отборной дивизии альпинистов, да еще взять в плен чуть ли не целую роту во главе с оберлейтенантом. До войны этот обер излазил все вершины Альп, а тут, на Кавказе, угодил в плен к пацану, который раньше вообще не видел гор. Конечно, им повезло. Альпинисты - немцы знали, что в снежную бурю на высоте 3400 метров над уровнем моря надо сидеть, как мышь, а Малец не знал. Могли, конечно, загнуться без единого выстрела. Но... вот так оно случается на войне. Повезло.