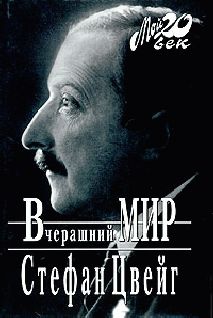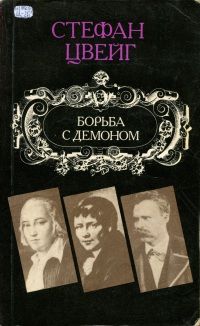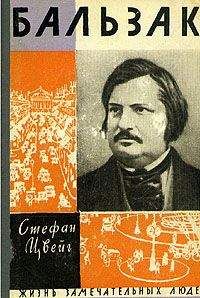Этот аристократизм, который самозвано присваивали себе некоторые еврейские семейства, с самого детства то забавлял, то раздражал моего брата и меня. Мы то и дело слышали, что это «благородные» люди, а те «неблагородные», у каждого нашего приятеля выясняли происхождение вплоть до десятого колена, а также происхождение капитала у его родни. Это постоянное разграничение, которое и составляло главный предмет любого разговора в семье и в обществе, казалось нам в те времена в высшей степени смешным и снобистским, потому что, в конце концов, для всех еврейских семейств речь могла идти о промежутке времени в пятьдесят или сто лет, за которые они – кто раньше, кто позже – выбрались из общего для всех гетто. Лишь много позже мне стало ясно, что понятие приличной семьи, которое нам, мальчишкам, казалось фарсом нуворишей, выражает одну из специфических и сокровеннейших черт еврейства. Считается, что стремление разбогатеть и есть главное и характерное в жизни еврея. Ничего нет более ложного. Стать богатым означает для него лишь промежуточную ступень, средство для истинной цели, а отнюдь не конечную цель. Подлинная воля еврея, его имманентный идеал – взлет в духовные выси, в более высокую культурную сферу. Уже в восточном ортодоксальном еврействе, где слабости, как и достоинства всей нации, проступают ярче, это высшее проявление воли к духовному через чисто материальное находит свое наглядное выражение: благочестивый человек, талмудист почитается в общине в тысячу раз больше, чем состоятельный; даже первый богач охотнее выдаст свою дочь за нищего книжника, чем за торговца. Это благоговение перед духовным у евреев свойственно буквально всем сословиям; самый бедный уличный торговец, который тащит свой скарб сквозь ветер и непогоду, попытается выучить хотя бы одного сына, идя на тяжелейшие жертвы, и это считается почетом для всей семьи, что в их роду есть свой ученый: профессор, музыкант – словно он своим положением делает их всех аристократами. Какое-то внутреннее чувство в еврее стремится его предостеречь от морально сомнительного, не внушающего доверия, мелкого и бездуховного, что присуще любому торгу, любому откровенному делячеству, и подняться в более чистую, бескорыстную сферу духовного, словно он хотел бы – выражаясь по-вагнеровски – освободить себя и всю свою нацию от проклятия денег. Именно поэтому почти всегда стремление к богатству в еврействе исчерпывается двумя – максимум тремя поколениями одного рода, и именно самые сильные династии подтверждают это своими сыновьями, не желающими вступать во владение банками, фабриками отцов, готовенькими и тепленькими местами. Это не случайность, что один из лордов Ротшильдов стал орнитологом, один из Варбургов – историком искусства, один из Кассиреров – философом, один из Сассунов – поэтом; все они подчинились тому же интуитивному стремлению освободиться от всего, что делало еврейство узким, от этого голого меркантилизма, а быть может, в этом выражается даже сокровенная мечта вырваться этим прыжком из чисто еврейского в духовное, в общечеловеческое. «Приличная» семья, следовательно, предполагает больше чем просто общественное положение, которое она себе приписывает этим понятием; имеется в виду еврейство, которое освободилось или начинает освобождаться от всех недостатков, слабостей и уязвимых мест, навязанных ему гетто, путем приобщения к другой культуре, и по возможности – к культуре универсальной. То, что этот уход в духовное, из-за исключительного предпочтения интеллектуальных профессий, позднее также стал роковым для еврейства – как в свое время ограничение сугубо материальным, – относится, пожалуй, к вечным парадоксам еврейской судьбы.
Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявилась в желании главенствовать в искусстве. От старой империи Габсбургов, которая некогда господствовала в Европе, давно уже отпали важнейшие и наиболее значительные провинции – немецкие, итальянские, фландрские и валлонские; нетронутой в своем прежнем блеске осталась столица – оплот двора, хранительница тысячелетней традиции. Римляне заложили этот город как цитадель, как форпост, чтобы защитить латинскую цивилизацию от варваров, и более чем тысячу лет спустя об эти стены разбилось движение османов на Запад. Здесь промчались нибелунги, здесь над миром воссияла бессмертная плеяда музыкантов: Глюк, Гайдн и Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и Иоганн Штраус; здесь сходились все течения европейской культуры; при дворе, у аристократов, в народе немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским, итальянским, французским, фландрским, и в том-то и состоял истинный гений этого города музыки, чтобы гармонично соединить все эти контрасты в Новое и Своеобразное, в Австрийское, в Венское. Готовый воспринять и наделенный особым даром к восприимчивости, этот город притягивал к себе самые полярные силы, разряжал, высвобождал, сочетал их; славно было жить здесь, в этой атмосфере духовной благожелательности, и стихийно каждый гражданин этого города воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира.
Это искусство выравнивания, тонких музыкальных переходов явно проступало уже во внешнем облике города. Медленно разрастаясь за столетия, органично расширяясь из сердцевины, он со своими двумя миллионами был достаточно населен, чтобы даровать всем блага и все многообразие большого города, и все же не стал настолько гигантским, чтобы оторваться от природы, как Лондон или Нью-Йорк. Последние дома города отражались в мощном течении Дуная или смотрели на широкую равнину, терялись в садах и полях или же взбирались вверх в пологих холмах по последним обрамленным зелеными лесами отрогам Альп; и трудно было определить, где природа, а где город, одно растворялось в другом без противодействия и противоречия. В центре же, в свою очередь, ощущалось, что город рос, словно дерево, наращивая кольцо за кольцом; а вместо древнего крепостного вала самое срединное, самое главное ядро опоясывала Рингштрассе с ее парадными зданиями. В срединной части старые дворцы двора и аристократов говорили языком окаменевшей истории: здесь, у Лихновских, играл Бетховен, здесь, у Эстергази, гостил Гайдн, здесь, в старом университете, впервые прозвучало «Сотворение мира» Гайдна. Гофбург видел поколения императоров, Шёнбрунн – Наполеона, в соборе Святого Стефана объединенные христианские князья коленопреклоненно возносили благодарственную молитву за спасение Европы от турок, университет видел в своих стенах бесчисленных светил науки.