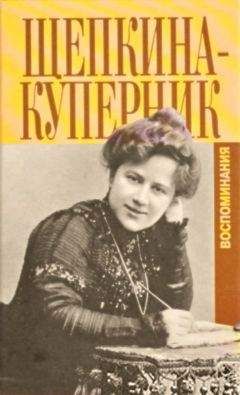Букинистов Александр Иванович любил нежной любовью, писал в их защиту и, будучи в Париже, с особым упоением бродил по набережной левого берега Сены и пополнял свою замечательную библиотеку разными редкостными находками. В доме его часто собирались, иногда запросто, иногда на литературные вечера. Там у него я познакомилась и с поэтом Бальмонтом, еще совсем юным и облеченным в романтический ореол после своей попытки к самоубийству, и с изящным и утонченным поэтом-адвокатом С. А. Андриевским, и с оживленным и говорливым П. Д. Боборыкиным, и со многими другими. У него читались разные новинки, русские и иностранные, а иногда он вынимал одну из своих сорока трех записных книжечек и угощал перлами из нее своих гостей — в этих книжечках он, как это делал и Чехов, коллекционировал поразившие его выражения, подслушанные на улице фразы, цитаты и пр. Между прочим, у него была коллекция «плохих стихов», куда он заносил, терпеливо собирая, разные перлы из газет и журналов, и, смеясь, читал их нам. В материале недостатка не было.
Профессией Александра Ивановича была адвокатура, и как оратор он бывал блистателен. Но собственно по призванию он был тонкий литературный и театральный критик. Он был человек широкого европейского образования, пропагандировал в России Флобера, Бодлера, откликался на Метерлинка, Ибсена, Гауптмана. Переписывался с Тэном, Гюисмансом и др. — между прочим, по просьбе последнего ездил в Париж защищать обвиненного в клевете литератора Жана Блуа и в виде исключения был допущен выступать в парижском суде и блистательно выиграл дело. Там он подружился со знаменитым Жюлем Фавром и подарил ему по его просьбе свой портрет с остроумной надписью «Avocat-prince au prince des avocats» (Адвокат-князь князю адвокатов).
Эрудиция Александра Ивановича была неистощима. Проявлялась она в самых разнообразных случаях. Благодаря ему, например, русские артистки перестали делать грубую ошибку, прикалывая в последнем акте «Марии Стюарт» розовый венок к поясу: Александр Иванович первый обратил внимание на эту несообразность и объяснил ошибку в переводе, что «Rosenkranz» значит просто четки. Перед бенефисом М. Н. Ермоловой он написал целую статью об этом и принес ей.
Статьи его по возможности собраны в сборнике, о котором я говорила. Он пишет и об Островском, и о византийской археологии, и о натурализме в искусстве, и о Пушкине, и — да всего не перечтешь, и все это всегда сжато, ярко и интересно: не пишет он никогда только по своей специальности. И не записывает своих речей; кроме кратких конспектов, от них ничего не осталось, — говорил он всегда по вдохновению.
Он был человек, необычайно умевший интересоваться жизнью во всех ее проявлениях, жадно слушать ее, черпать из нее полной чашей. Но все у него проходило сквозь призму эстетического мировоззрения. «Тенденции» в искусстве он ненавидел, и это, кажется, было единственное, что он ненавидел. Но тут он уж даже бывал и пристрастен иногда. Это его свойство слегка отдалило меня с годами от его уроков: я брала из них все, что можно было, — любовь и поклонение красоте, но моя дорога все-таки свернула в сторону известной идейности в творчестве, которую он не только отрицал, но и порицал. Это не мешало мне всегда считаться с его мнением: порицание его иногда и бывало пристрастным — но на одобрение его всегда можно было положиться.
Я должна сказать, что, несмотря на эту нелюбовь к «тенденциозному искусству», вся жизнь Александра Ивановича, все его действия, поступки и отношения являлись именно осуществлением на деле тех идей, проповедование которых в литературе или искусстве он жестоко отвергал. Студентом его исключали из университета за участие в студенческих беспорядках, позже он терпел репрессии за слишком свободные речи на суде, за симпатии к Польше, за юдофильство. Отбыл около пяти лет политической ссылки за неблагонадежность. Абсолютно не придавал никакого значения происхождению (смеясь, говорил: «Чем тут хвастать, что мои предки татары грабили народ по проезжим дорогам?») и ставил выше всего личное дарование, «аристократию духа», горячо заступаясь за обиженных и угнетенных, кто бы они ни были.
Чем-нибудь он всегда увлекался. Бывало, как заслышу сейчас после звонка его сочный, бархатный баритон, до конца остававшийся молодым, еще из передней обыкновенно возглашавший:
— Что я открыл, друзья мои! Какой талант!
Я уже спешу его поддразнить и предупредить:
— Ну, какой вы новый талант открыли, Александр Иванович?
Но, кроме постоянных мелких «открытий», у него были в жизни три главные страсти, три полосы, в сущности все три строго отвечавшие его вечному стремлению к гармонии прекрасного, истинным служителем которого он в полном смысле слова был.
Во-первых, это был Флобер, воплощавший для него красоту ума и мысли.
Во-вторых, две гениальные артистки, русская — Ермолова и итальянская — Дузе, олицетворявшие для него красоту гения, таланта живого.
И наконец — его имение Марьинка, воплотившее для него последнюю, может быть, лучшую красоту природы и жизни.
Когда за несколько лет до его смерти я встретилась с ним после некоторого отсутствия и, шутя, по привычке спросила: «Ну что, Александр Иванович, — все Дузе? Лучше ничего на свете нет?» — он серьезно ответил: «Нет, мой друг: теперь — Марьинка. Знаешь, ничто не может сравниться с тем, как распускаются почки на деревьях».
В последние годы он стал плохо слышать. Когда он как-то зашел ко мне, — с ним уже трудно было говорить. Но ни на минуту он не терял обычного блеска и бодрости. Толковал о последней вещи Ибсена, рассказывал, какую собирается написать статью, проектировал поездку за границу — «опять с Аличкой» (он как-то возил мою сестру за границу, в виде подарка к дню рождения, когда ей исполнилось 16 лет), но осуществить этой поездки ему уже не удалось.
Глухота его установилась окончательно месяцев за пять до смерти. Он писал одной своей приятельнице: «Я глух, насколько возможно быть глухим. Понятие о звуке, о голосе, о живой речи существует для меня только в воспоминании… Я говорю мало. Мне пишут. Я погружен в чтение и в воспоминания… меня радует вид цветов, я мечтаю о той минуте, когда я усну, — я вижу сны…»
Он знал, что он неизлечим. Но к мысли о смерти относился как мудрец. Он писал своей сестре за полгода до смерти: «Нужно ли огорчаться смертью? Нет. Наш подвижный конгломерат молекул возвращается в тот всемирный хаос, из которого возрождаются живые существа. Это закон природы. Я уже давно где-то писал: вера в бессмертие души — это верх человеческого самообольщения. Действительно, подумай только: каждый из нас представляет из себя результат, в общем неважный, недостатков, слабостей, пороков и нескольких добродетелей, все это более или менее случайно, наследственно, но, без сомнения, не особенно устойчиво… И вот в силу почти обязательной доктрины это бедное «я» осуждено существовать вечно? Это было бы ужасно. Как, никогда не уснуть окончательно? Всегда влачить неизвестно где свою индивидуальность, посредственную или отвратительную? Какой кошмар! И все это в награду или в наказание. Как наказать существо бессознательное или замученное при жизни? И как наградить того, кто скажет «довольно»?» Его настроение оставалось ровным и ясным, несмотря на это медленное умирание (он постепенно лишался слуха, вкуса и т. д.).