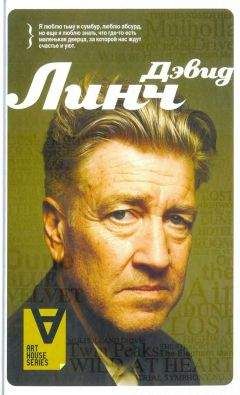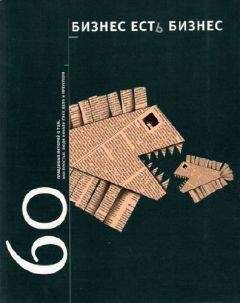В общем, что-то было в тогдашней атмосфере такое, чего сейчас днем с огнем не найдешь. Это было здорово, и не только потому, что я тогда был ребенком. Это было время, полное надежд, и все шло на подъем, а не на спад. Такое ощущение было, что тебе под силу абсолютно все. Будущее было безоблачным. Мы же не понимали, что закладываем фундамент для будущих катастроф. Проблемы никуда не девались, но как-то замазывались. А потом эта защитная пленка лопалась или сгнивала и все просачивалось наружу.
Какие проблемы?!
Ну, на самом деле загрязнение окружающей среды было сильное, тогда оно и началось. Пластик внедрялся, были сумасшедшие исследования сложных полимеров, и масса медицинских экспериментов, и атомная бомба, и, ну вы знаете, масса разных испытаний. Будто мир такой огромный, что можно вывалить кучи мусора — и ничего не будет, да? Все просто вышло из-под контроля.
В пресс-релизе к фильму «Дикие сердцем» в 1990 году вы описали всю свою биографию всего тремя словами: «Иглскаут, Миссула, Монтана». Почему?
Ну, все скауты делились на новичков и бойскаутов. Слова дурного о них не скажу, но в какой-то момент быть скаутом стало дико некруто! Причем как раз когда я был скаутом! Это было похоже на постоянное ощущение стыда, чего-то позорного. Совсем не почетно. А иглскаут — это было самое старшее звание! Как только я его заработал, то сразу успокоился, можно было уходить, — для того, собственно, и зарабатывал. А мой отец, благослови Господь его душу, всегда говорил: «Однажды ты будешь гордиться тем, что сделал это». Ну, я и вставил этот факт в свое резюме.
А во время инаугурации Джона Ф.Кеннеди вы присутствовали там от иглскаутов?
Ага. Наш отряд попросили занять VIP-места на трибунах перед Белым домом. Это была самая мерзлая инаугурация в истории — 1961 год, 20 января, а это как раз мой день рождения. Ну, я стою в снегу, на морозе, перед входом в Белый дом. А нам сказали, что лимузины должны выехать из ворот, которых там было пять. Поэтому нам надо было добежать до верхних трибун и заглянуть через стену, едут они уже или нет.
Я увидел, как они поворачивают к нашим воротам, и стал спускаться, но охрана велела всем отойти назад. Поэтому я развернулся и пошел, а охранник из секретной службы сказал: «Эй, ты!» Я повернулся, он показывал на меня, и я переспросил: «Я?» — а он сказал: «Ну да, ты, пойди сюда!» Он поднял меня и поставил между собой и другим охранником в живую цепь, которую образовала охрана на дорожке у ворот. И я видел еще больше людей из секретной службы с другой стороны дорожки.
Ворота распахнулись, и выехали эти две машины, они двигались медленно и подъехали прямо к нам. Окна машины оказались прямо напротив меня, и, когда они проплыли у меня перед глазами, в первой машине я увидел президента Эйзенхауэра и будущего президента Кеннеди. На них были цилиндры, и они говорили друг с другом. Айк был ближе ко мне, а Кеннеди футах в пяти или шести. А потом следующая машина тоже проехала мимо нас, и в ней были Джонсон и Никсон, и они не общались между собой. Спустя годы я понял, что видел четырех президентов, чье правление пришлось друг за другом, в это короткое мгновение, стоя между двумя охранниками из секретной службы.
А что вы помните про убийство Кеннеди?
Знаете, это было ужасно. Я сидел перед телевизором в вестибюле школы и поэтому услышал новость раньше остальных. Но потом об этом громко объявили и всех школьников отпустили с уроков. Джуди Вестерман, моя девушка, была католичкой, и она так была привязана к этому президенту, вы не представляете! Она плакала навзрыд, и я отвел ее домой. Она заперлась в своей комнате и не выходила оттуда четыре дня!
Это было безумие какое-то, потому что по телевизору об этом сообщили сразу, но все сидели по домам и продолжали смотреть одно и то же. И все видели, как Джек Руби убил Освальда. Это время потом назвали «Четыре мрачных дня», и по иронии судьбы Джуди провела эти дни, сидя в своей темной комнате, так что для нее они стали буквально мрачными!
Когда смотришь ваши фильмы, кажется, что у вас было много детских страхов.
Очень много. Только мучительных, а не просто каких-то испугов. По-настоящему мучительных. Я думал: «Это не то, чем оно кажется» — и мучился. Это была моя мнительность, но это было и знанием.
Вы однажды сказали, что ваша младшая сестра Марта тоже боялась, но только зеленого горошка! Это правда?
Ну да. Я думаю, это было связано с плотностью и твердостью горошин и тем, что у них внутри, если снять шкурку. То есть даже не со вкусом, а с тем, что они такие твердые снаружи и мягкие внутри. Но я не знаю, вы лучше у нее спросите про горошек. Этому все в нашей семье придавали большое значение, а она прятала горошек.
Но почему ваши родители не перестали кормить ее горошком?
Нет, ну речь же идет об овощах, понимаете?
Вот такими мы были. Детский Рождественский праздник для Марты, Джона и Дэвида Линчей.
В смысле — что они полезны?
Ну да.
Но не в том случае, когда вы их боитесь...
Нет-нет, тогда нет. Тогда не полезны. Пробуй тогда другие овощи. Какие-нибудь должны подойти!
А ваши родители теперь-то хоть понимают, что вы были травмированным ребенком?
Ну, я думаю, каждый ребенок видит вещи, которые его травмируют, и тут никто не виноват. Просто жизнь такая. Детское сознание так устроено. Наверное, оно состоит на семьдесят пять процентов из фантазий и только на двадцать пять из реальности.
Вы очень боялись города в детстве, да? И даже потом, когда стали старше?
Да, но я думаю, если вы выросли в городе, то будете бояться деревни, а если выросли в сельской местности, то вас будет пугать город. Мои бабушка и дед с материнской стороны жили в Бруклине, и я ездил в Нью-Йорк и видел все это. И меня это все до смерти пугало. Я помню в метро воздушную струю от приближения поезда, а потом запах и звук. Я ощущал привкус ужаса всякий раз, когда приезжал в Нью-Йорк.
Мой дед был владельцем многоквартирного дома в Бруклине, там не было кухонь. Люди жарили яичницу на утюгах — вот это меня реально пугало. И каждый вечер он отвинчивал антенну со своей машины, чтобы уличные банды ее не отломали. Я чувствовал, что страхом пропитан воздух. Это было отличное топливо для будущего пожара.
В каком смысле?
Я понял, что прямо под оболочкой внешнего мира существует другой мир, а если копнуть глубже, там будут проявляться все новые миры. Я знал это еще ребенком, но не мог доказать. Это были просто ощущения. В голубом небе и цветах заключена благодать, но иная сила — дикая боль и разложение — в равной мере содержится повсюду. Это как с учеными: они начинают свои исследования на поверхности, а потом углубляются внутрь предмета, достигают мельчайших частиц, и весь их мир снова сводится к абстракции. Они чем-то похожи на художников-абстракционистов. С ними невозможно разговаривать, потому что они погрязли в абстракции.