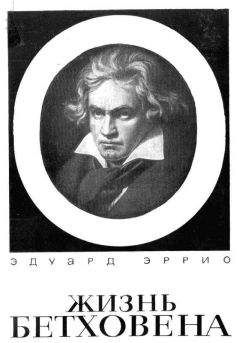Эррио, как и многие другие биографы Бетховена, не раз говорит об этой черте, проявлявшейся в его жизни и музыке, но не выдвигает ее на первый план в ущерб другим сторонам характеристики великого мастера. И самым большим достоинством книги нужно считать то, что в ней показаны не только масштабы гения композитора, но и его основные творческие стимулы, которыми, несомненно, являлись высокие этические и общественные, подлинно революционные идеалы Бетховена, поддерживавшие его в непрестанной борьбе со всеми испытаниями, болезнями и горестями, утверждавшие веру в свои силы, в грядущие социальный Преобразования, в духовную красоту и величие человека.
Игорь БэлзаВ последние дни марта 1927 года Австрийское государство и город Вена блистательно отмечали сотую годовщину со дня смерти Людвига ван Бетховена. Одна торжественная церемония сменялась другой. На Балльплац, то есть в старом здании министерства иностранных дел, в знаменитом зале о пяти дверях, где когда-то заседал Венский конгресс, президент новой республики и ее канцлер собрали за дружеским завтраком представителей держав, которые еще недавно столь ожесточенно сражались друг с другом.
В таком доме на каждом шагу возникают тени прошлого; пробуждаются воспоминания; Вена хранит память о работе конгресса, о сопутствовавших ему празднествах и о многочисленных инцидентах, ознаменовавших начало заседаний. Монархи развлекались, но их министры слишком хорошо понимали своих коллег, чтобы прийти к соглашению. «Конгресс хранит свои тайны, потому что у него их нет», — шепчут скептики. И довольно долго дела идут по воле волн. Но как великолепны приемы между заседаниями! Вот Нессельроде[4]в полном расцвете молодости, рассказывает о своем пребывании в Париже; тогда он был всего лишь советником посольства и наблюдал, как вооружался Наполеон. Вильгельм фон Гумбольдт бомбардирует эпиграммами г-на фон Меттерниха, этого фата, который претендует на то, чтобы управлять всем миром, встает в десять часов утра и отправляется вздыхать в гостиной г-жи Саган. Но задержаться у остроумной женщины, разве это значит потерять время? Г-же Саган надоело выплачивать ренту своим бывшим мужьям; она заявила, что мужья разоряют ее и что впредь она не попадется на удочку. Каждый день приносит новости, сплетни. Прусский король страдает от ревматизма, по он без ума от Юлии Зичи: Саксония и Зичи, больше ему ничего не надо. Некая графиня, в ответ на усиленные ухаживания императора Александра, спросила: «Не принимаете ли вы меня за провинцию?» На последнем балу, кто была эта изящная маска в широкополой шляпе с черным пером? Из Парижа приехала танцовщица, ее называют «Маленькой возлюбленной». Проявляет спесь Кэстльри, запятнанный кровью и страданиями Ирландии. Дальберг теряет свои бумаги, их подбирает хорошо вышколенная полиция.
Но г-н де Талейран более чем кто-либо занимает и тревожит конгресс. Я вижу его таким, каким он изображен на гравюре с картины Жан-Батиста Изабэ, украсившей один из залов на Орсейской набережной (оригинал хранится в Виндзорском замке), или на этюде сепией, находящемся в Лувре. Он сидит справа (в центре всей этой сцены Кэстльри), напротив улыбающегося барона фон Гумбольдта, рядом с ораторствующим Штакельбергом, представителем России. Прожженный хитрец! Как ловко Талейран придал себе нужный облик — выражение спокойного достоинства человека, явившегося лишь для защиты принципов справедливости! Вглядитесь в его глаза: они наблюдают; этот самый взгляд сорвал вчера маску с императрицы, распознав неискреннее жеманство там, где других пленяла прелесть непосредственности; этот взгляд доискивается до сокровенного смысла письма, различает оттенки официального приглашения, подметит незапятое и выгодно расположенное место, где можно небрежно присесть, подчеркивая свою властную волю; этот взгляд прочтет на лице Меттерниха, как подействовал ответ, — будто бы сымпровизированный, а на самом деле умело рассчитанный. Образ Талейрана характерен своей многоплановостью — это символ дипломатии, основанной на лживой изворотливости под личиной благородной заботы о справедливости. Искренность для него не что иное, как утонченнейшая форма лукавства; Талейран предписывает ее своим агентам так же, как и самому себе. Вновь вспоминаю я топкое лицо, обрамленное длинными волнистыми волосами, подпертое высоким жестким воротником, шитым золотом; но прежде всего — глаза, незабываемые глаза — глаза охотника: из-под полуопущенных век надменно глядят они вдаль. Князь едва заметно улыбается среди всех этих персонажей, отягощенных чрезмерно раззолоченными мундирами (на картине изображен и некий лорд Стюарт; он, видимо, весьма горд некоторым сходством с Наполеоном). Чувствуется, что Талейран давно уж утратил всякую веру в правдивость человеческих слов, что все его действия, вплоть до интонации выступлений, продиктованы корыстной целью, презрением к роду человеческому, пессимизмом, лежащим в основе традиционной политики и дипломатии.
В зале конгресса царит остроумие. Повторяют остроты французского посла. На слова принца де Линь «Признайте, что вы — Тартюф!» последовал ответный выпад: «Я могу согласиться с этим без всякой опаски; ведь вы считаете меня лжецом». Вот он, посол Франции, увешанный орденами, подходит прихрамывая к карточному столу; колеблющаяся, неверная походка помогает ему по пути незаметно условиться о встрече с баварским уполномоченным. Незримо присутствующий Наполеон владеет всеми умами. Правда ли, что Мария-Луиза разрыдалась, найдя у себя его портрет? А папа, он так и не решится провозгласить развод? Оставят ли в такой близости от берегов этого сокрушителя королей? Г-н Талейран играет подобными опасениями, как и всем, что может послужить его израненной стране. Зал конгресса хранит воспоминание об искусном волнении, с которым он взывал к идеалам морали и права, прикрывая тем самым свои политические замыслы. И тогда же, в своем великолепном дворце возле канала, посол России граф Разумовский представил гостям некоего музыканта, возбуждающего скорее любопытство, чем восхищение. Этот вельможа в конце прошедшего века женился на сестре княгини Лихновской; время от времени он принимает у себя любителей музыки. Он содержит прославленный квартет, в котором сам играет партию второй скрипки; его партнеры — Шуппанциг (первая скрипка), Вейс (альт) и Линке (виолончель). По его словам, он гордится тем, что Бетховен посвятил ему свои произведения.
Какими скромными кажутся эти музыкальные собрания в окружении стольких исторических событий! Но в то же время насколько человечнее, возвышеппее такие духовные общения! Мне приходит на память одна фраза из Гейлигенштадтского завещания: «Божество, с небес ты смотришь в глубь моего сердца, ты познало его, ты знаешь, что любовь к людям и склонность к добру пребывают в нем». Мне слышатся стенания каватины из Тринадцатого квартета, скорбной мольбы, которую великий художник пишет сквозь слезы в ту пору, когда жизнь его завершается, когда еще раз он пытается воплотить вдохновлявший его идеал. Займется ли заря, которой Бетховен так и не увидел? Я мог бы припомнить, что столетие со дня его рождения праздновалось в период наших жестоких поражений; что Рихард Вагнер по этому поводу обрушил на истерзанную Францию всю тяжесть своего озлобления. Я не стану злоупотреблять этими воспоминаниями. Люди, видевшие страдания своих наций, откликнулись на призыв народа, завоевавшего в мужественной борьбе против всяческих бедствий право на независимость и свободу. Тот, чье имя издавна подвергалось осмеянию, связал народы узами взаимной любви и дружбы; из глубин отчаявшегося одиночества скорбный гений провозгласил человеческий долг братства. И в благоговейном молчании сплетаются руки — руки, которые жаждут быть дружескими.