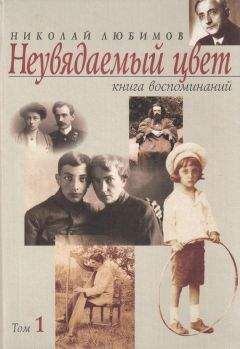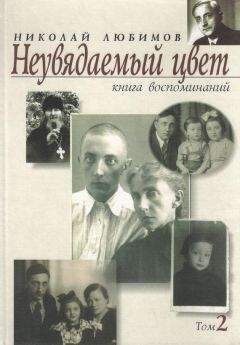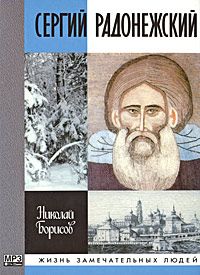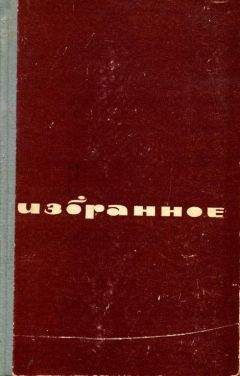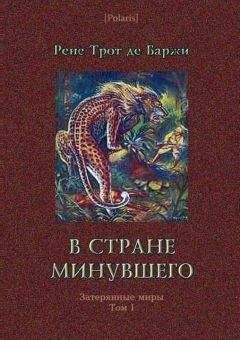Я не припомню, чтобы кто-нибудь не из духовных лиц молился вслух с такой силой убежденности, как моя бабушка. В ее молитве не слышалось ни восторга, ни умиления, ни самоумаления. То была ежедневная просьба послушной и любящей дочери к Отцу Небесному, ежедневная хвала мудрой Его благости.
Начинала она свое обращение к Богу с троекратного:
– Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой!
А затем тянулась вереница имен дорогих ей людей, о здравии и спасении которых молила она Вседержителя:
– …девицы Юнии, девицы Евдокии, девицы Анны, девицы Софии, рабы Елены, младенца Николая, раба Николая и рабы Елисаветы с чадами, девицы Лидии, девицы Наталии, рабы Параскевы (Параскева – это их прислуги, вернее – друг их дома, крестьянка Перемышльского уезда Параша Тишкина).
Молитвословие перемежалось славословием.
Притаившись в спальне или в саду – так, чтобы ничем не выдать своего присутствия, – я слушал, как бабушка читает наизусть молитвы, слушал и запоминал.
Впервые с ее голоса запомнил я молитву, которую потом слышал в исполнении народном, в исполнении разных хоров, слышал, как она в обиходном напеве, в напеве киевском, как она звучит у Архангельского, у Рахманинова:
– Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся» Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклони́мся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.
Бабушка читала это так же просто, как просто произносила имена поминавшихся ею за здравие и за упокой, внося в чтение лишь певучую мерность стиха.
Когда я вспоминаю бабушку, молившуюся с безыскусственностью человека, для которого бытие милосердного Бога столь же непреложно и несомненно, как несомненен запах жасмина, растущего поодаль, как несомненен шелест березовых листьев над ней или щебет ласточек, гнездившихся под крышей ее дома, над самым крылечком, я отдаю себе ясный отчет, что бабушкины молитвы – один из источников моей религиозности.
Бабушка была духом сильна и бодра. Она ни на что не жаловалась. Плакала, только когда перед осенью из Новинки разлетались летние гости. Навзрыд плакала при расставании с нами летом 24-го года. Все обнимала нас с мамой, гладила, целовала и обливалась слезами. Лошади давно уже были поданы, а бабушка не могла оторваться от «Нелички», как она называла мою мать, произнося ее уменьшительное имя не через «э», а через «е», не могла оторваться от меня.
– Золотая ты моя головочка, – причитывала она.
Бабушка не говорила, почему ей так уж горько расставаться с нами именно в этом году, да и ничто как будто не предвещало близкого ее конца – все такой же крепкой, как осеннее яблоко, выглядела она, – но все мы что-то предощущали, все понимали ее без слов.
27 февраля 25-го года она скончалась.
Завещала бабушка похоронить ее рядом с «Минечкой». Две дочери, жившие тогда с ней, Дуня и Аня, исполнили ее волю. Наняли две подводы и перевезли гроб с ее телом за восемьдесят верст, в Перемышль.
Отпевал бабушку бывший ее духовник, пользовавшийся особым ее уважением, о. Иоанн Песоченский.
Тогда еще в провинции духовенству и певчим разрешалось провожать покойника по усыпанной можжевельником дороге в последний путь – от храма до кладбища.
Хотя бабушка уехала из Перемышля в 16-м году, многие помнили ее. И похоронная процессия поминутно останавливалась: из домов выходили старожилы и просили о. Иоанна помолиться «о упокоении новопреставленной рабы Божией Анны».
Похоронили бабушку в одной ограде с ее сыном. Теперь от их могильных холмиков и следа не осталось. Сохранились лишь кусты сирени, посаженные моей матерью в 1916 году.
3
Все четыре сестры моего отца так и остались незамужними. Старшая, Юния, не вышла из материнской воли – совет или даже просьба «мамуси» были для нее законом. У Евдокии судьба сложилась несчастливо. Анна, в молодости – дикарка, не стремилась к замужеству. Младшая, Софья, долго учительствовала в глухих деревнях, а когда перебралась в город, время ее ушло.
Как и мои родители, я больше всех любил тетю Дуню и тетю Аню. Когда я только-только начал говорить, я почему-то назвал тетю Дуню «Гынга». Так это имя к ней в семье и пристало: Гынга и Гынга… Тетя Аня была сама кротость, и при ней я шалил безвозбранно. А вот Гынги побаивался, хотя она меня пальцем ни разу не тронула и резкого слова мне не сказала. В ее голосе я улавливал нотки – по всей вероятности, бабушкиной – властности, которая так необходима медику.
Из всех четырех сестер Гынга и Аня отличались наибольшей отзывчивостью, наибольшим гостеприимством и хлебосольством. Все у них делалось точно в сказке, как бы само собой. И так же незаметно проявляли они заботу о людях. И Гынга и Аня обладали особым талантом – талантом ненавязчивой заботы, которым наделена была и моя мать.
Животных они любили, пожалуй, не меньше, чем людей. В бабушкин «Месяцеслов» на 1862 год они вписывали наиболее важные события их жизни, преимущественно – печальные: тогда-то скончалась их мать, двоюродный брат, старший брат Коля, племянник, одна невестка, другая… На одной из вклеенных страниц я прочел запись: «1947 г. 26 мая нового стиля умер наш дорогой друг Нурочка. В 4 часа дня». Это был песик, проживший у них 17 лет.
В перемышльской больнице у Евдокии Михайловны вышла неприятность с врачом. Ей пришлось уйти со службы, и некоторое время она занималась частной практикой. Содержать на случайный заработок мать и себя оказалось нелегко, и Евдокия Михайловна стала приискивать себе место. Ей предложили место акушерки в только что отстроенной Новинской больнице. Это была лебединая песня Калужского губернского земства. Стоит больница на опушке леса, на границе трех бывших уездов, по-нынешнему – районов: Калужского, Малоярославецкого и Тарусского. Прежде шутили, что здесь петухи сразу на три уезда поют. До ближайшей деревни Болотни не меньше версты, до торгового села Недельного – пять верст. В больничный двор кое-когда забегали волки. Между тем оборудована была больница по последнему слову тогдашней техники: там были и водопровод, и канализация, которые городу Перемышлю и во сне не снились. Да что там Перемышль! В Калуге проведенной водой и канализацией пользовались немногие избранники судьбы, жившие в центре города.
Евдокия Михайловна согласилась забраться в эту глушь. Ей предоставили двухкомнатную квартиру с громадными, чуть не во всю стену, окнами, заливавшими комнаты светом. Квартира акушерки сообщалась с родильным отделением ванной комнатой. Больные и посетители проходили в родильное отделение через боковую дверь в левом крыле здания. Квартира, дрова и керосин – бесплатные. Дрова пилили, кололи и приносили дворники. В кухне стояла не русская печь, а плита. Из коридора дверь вела во двор.