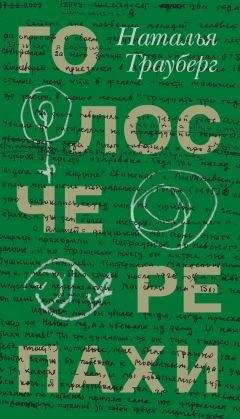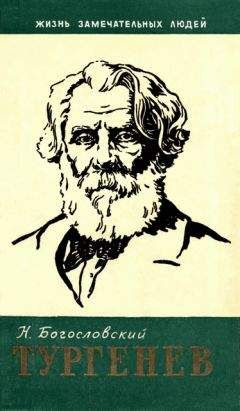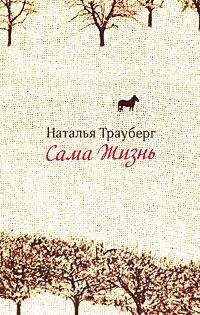Ознакомительная версия.
Оговорив, что «Ада» и «Улисс», которых сама я читать не могу – несомненная классика, приведу снова (кажется, в третий раз) такие стихи Кибирова:
Только детские книжки читать!
Нет, буквально – не «Аду» с «Улиссом»,
А, к примеру, «Волшебную зиму в Муми-доле»…
А если б еще и писать!
Вон как кинулись люди к «Гарри Поттеру». А Честертон, даже поздний, печальный, писал именно «Зиму в Муми-доле». Наверное, мы стосковались по таким книгам.
О Малькольме Маггридже
(1903–1990)[6]
Совсем недавно, слава богу, кончился XX век. Мы хорошо знаем, что с течением лет добро и зло сгущаются, но не только аберрация близости подсказывает нам, что зло как-то уж слишком сгустилось. Все-таки, в этот век уложились бесовские режимы в трех больших странах (третья – Китай), не говоря уж о странах небольших и о режимах крайне сомнительных. Что до естественных плодов свободы, уже на уровне отдельных людей, этому нет конца; и многим кажется, что утопия порядка все– таки получше – не краткостью своей (как видим, они разрушались сравнительно быстро), а по самой сути. Такая ностальгия, мягко говоря, огорчает, особенно тех, кто успел в этих утопиях пожить.
Поэтому нужно вспомнить людей, которые действительно убереглись и от Сциллы, многорукого чудища, пожиравшего людей, и от Харибды, водоворота, людей затягивающего. Их, как и следовало ожидать, очень мало. Ведь самое простое – лечить одним злом другое, а не сочетать виды добра, которые кажутся несочетаемыми.
Таким был Честертон. Если его причислят к лику блаженных, о чем давно идет речь, то ему подходит роль покровителя этих людей. Казалось бы, он рожден быть патроном журналистов – но первое важнее. А кроме того, патроном журналистом может быть и Малькольм Маггридж. Он тоже встал против обеих утопий, но, в отличие от Честертона, довольно поздно, после долгих и разных заблуждений.
Кроме того, Маггридж – истинный человек минувшего столетия. Его можно сравнить с Мертоном, оба – блудные сыновья в чистейшем виде. Конечно, плох тот христианин, который не похож на этого героя едва ли не самой поразительной из евангельских притч. Но у Мертона и Маггриджа очень уж это явно, они – обычные мирские гуляки, почти хулиганы, даже мрачные. Правда, здесь Мертон – впереди, он был до обращения просто образцом распущенного бездельника. Маггриджу всегда мешал дойти до этого унаследованный или усвоенный в детстве идеализм.
Семья у него была, как сказали бы англичане, «из низшего среднего класса», мать – почти неграмотная, родители ее – из северных индустриальных мест; но Генри Томас Маггридж, отец, выбился в интеллигенты. Когда читаешь о нем, поневоле переносишься в Россию; все-таки в Англии мещанские мальчики («разночинцы») реже становились образованными народолюбцами. Малькольм и его братья очень любили отца; видимо, многие его любили, он был Дон Кихотом социализма. Весьма высоколобые фабианцы, снизошедшие разве что до Уэллса, который все-таки был знаменитым писателем, считали Генри Маггриджа своим и дружили с ним. Позже, в 20-х, Малькольм женился на племяннице «самой» Беатрис Уэбб. В иерархической Англии его без труда впустили в достаточно высокий класс. Правда, отец к тому времени побывал членом парламента от лейбористов, но жил все в том же тихом пригороде и выглядел более чем скромно.
Малькольм учился в Кембридже тогда же, когда Набоков (чуть моложе), но тут уж о равенстве не может быть и речи. Все-таки русский high-brow переплюнет всех английских. Скорее всего, они знакомы не были. В любом случае, Малькольм плохо одевался; а в главных университетах, по свидетельству Льюиса, тоже почти ровесника, студенты четко делились на задрыг и франтов, взаимно презиравших друг друга. Может быть, Малькольм никого и не презирал, он был скромным и добрым.
Преданность социализму под вопрос не ставилась, он точно знал, где истина; но она не мешала приступам религиозных поисков, даже скорее помогала. Одно время он стал чем-то вроде пламенного неофита, но остыл. Кончив университет, он должен был работать (в Англии это далеко не всегда так, особенно – тогда), и довольно долго метался между преподаванием английской словесности в колониальных университетах и журналистикой, которая победила, но далеко не сразу. В 1927 году он довольно неожиданно женился, и тут ему очень повезло. Китти, которой он полжизни непрерывно изменял, оказалась прекрасным человеком. У них, как у старших Маггриджей, было четверо детей; и у тех, и у других один умер.
Преподавание, среди прочего, занесло Малькольма в Индию (1934-35), где он совсем уж собрался бросить жену ради невероятно красивой художницы, у которой отец был индийцем высшей касты, мать-венгеркой. Там же, верный своим религиозным метаниям, он увлекся индуизмом, но до модного самодельного оккультизма все-таки не дошел. (Скажем, что прекрасная Амрита умерла через шесть лет, не дожив до тридцати).
Журналистика, немного раньше, занесла его в более опасное место – сюда, в Москву (1932). Приехал он вместе с Китти и через несколько лет описал их здешнюю жизнь в довольно слабом романе. Но как все узнаваемо! Хмурые лица, грязь в гостинице («Астория» на Тверской, где селили не очень важных иностранцев), анекдоты, питье – он пил и так, но с озверевшими коллегами стал пить гораздо больше. Вскоре их с Китти переселили на какую-то дачу на Клязьме, и там он испытал знакомые нам муки – Китти тяжело заболела (видимо, воспалением легких, причем антибиотиков тогда не было), а вызвать врача они не могли – то ли не там «прикреплены», то ли еще что-нибудь, в общем – весь советский букет. Добыли как-то сестру с банками, поудивлялись этому средству – оказывается, в Англии его не знают, но все-таки Китти стало лучше, и Малькольм убедил ее уехать. Так, в знаменательном возрасте обращений, он начисто утратил веру в социализм и вообще в какие бы то ни было утопии. С той поры он делил режимы на выносимые и невыносимые.
Вернувшись, он писал, для газет – успешно, как романист – не очень, много пил, любил семью, но крутил романы. Таким хемингуэевским персонажем был он и на войне, где дослужился до майора. Конец войны ознаменовала очень промыслительная встреча.
Его приставили к опозоренному Вудхаузу. Этот идиллический юморист жил в 1940 г. на французском курорте, у самого пролива, когда туда неожиданно нагрянули немцы. Они с женой, как и почти все, не верили, что это случится, а кроме того он вообще был исключительно отрешенным, по-детски далеким от мирских дел. Словом, его забрали в лагерь для подданных враждебных государств, а Этель, жена, пристроилась под Лиллем у знакомых. В 1941 г., когда ему исполнялось 60 лет, его по женевской конвенции выпустили и тут же предложили выступить в Берлине по радио для еще нейтральной Америки. Он выступил, беззлобно смеясь над собой, над теплушкой и лагерем, и думая при этом, что подбодряет читателей, чьи письма добрались даже до Германии. В Англии поднялся страшный крик. Большинство обличало его, не зная ни обстоятельств, ни абсолютно невинных текстов, несколько человек – призывало к милости (Ивлин Во, Дороти Сэйерс, Оруэлл), стараясь напомнить, какой он бесхитростный и далекий от политики человек. Вспоминали и о том, что именно он создал однозначную карикатуру на сэра Освальда Мосли, главу английских фашистов (лорд Сидкап в романах про Дживса и Вустера), но ничего не помогало. С осени 1943 Вудхаузы жили в Париже, о травле уже знали, жена – сердилась, он – очень страдал и ругал себя за глупость. Сразу после освобождения Франции, то есть ровно через год, к ним явился майор Маггридж, которому было поручено сторожить их, пока в Англии разберутся. Он сообщил, что только что умерла любимая падчерица Вудхауза, оставив двух детей.
Ознакомительная версия.