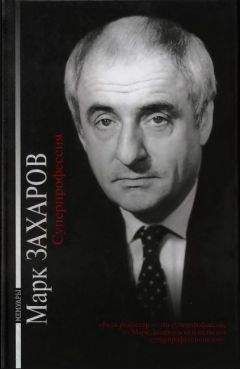Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
И он ответил любопытным: вечность!
Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!
Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».
Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспевал камень, одухотворившийся в соборы и города. Здесь начинается его проходящая через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение — «Петербургские строфы» — посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителей не было, были предшественники: Вийон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он зовет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…
В этих стихах молодого Мандельштама проглядывает восхищение глупой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», — уланы не стояли в Царском Селе, это описка поэта.
Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в обрисовке обитателей Царского Села: однодума генерала, кичливого князя-офицера и напугавших поэта «мощей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.
Мандельштам приветствует «реалии», как сказали бы мы сейчас, американизирующегося общества, раньше других подметив это явление, стихотворениями: «Кинематограф», «Американка» и «Американский бар». Первым после Лермонтова в русской поэзии он обращается к теме спорта. Лермонтов живописал кулачную потеху — русский бокс со смертельным, как положено в России, исходом, Мандельштам — теннис. Потом и футбол появится. Поэт, у которого полушки за душой не было, восхищается игорным домом — на дюнах казино. В эту пору Мандельштам съездил за границу, хотя до сих пор неясно, где ему довелось побывать. Лучшие из «зарубежных» стихов посвящены Венеции и Риму, но, кажется, до Италии он не добрался.
Если верить стихам — а им надо верить до известного предела, ибо они не дневник, а творчество, — Мандельштам в эти годы упивался жизнью. Носил котелок, стал отращивать бачки. Он позволяет и любви заглянуть в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматова». Война 14-го года всколыхнула его поначалу на изящные стихи «Собирались эллины войною // На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затянувшаяся бойня вызывала у него лишь чувство отторжения.
Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому, что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культовые обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчетливости.
Он как будто присматривался к лютеранству и католичеству стихотворениями «Лютеранин» и «Аббат». В первом он живописует простые, строгие и легкие лютеранские похороны, чуть бездушные в своей чинности, что приводит его к безрадостному выводу:
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада
И в полдень матовый горим, как свечи.
Все горько и справедливо, кроме местоимения «мы», — поэт-пророк напрасно распространяет на себя нашу тусклость и равнодушное смирение перед вечностью.
«Спутник вечного романа аббат Флобера и Золя», спешащий на обед в замок, предсказывает Мандельштаму: «Католиком умрете вы». Наверное, Мандельштаму в его очарованности Римом казалось, что он разделит судьбу Печорина и кн. Голицына. И аббат, и поэт оба ошиблись. В недалеком будущем Мандельштам внезапно и резко охладеет к Риму и сблизится с Элладой — не с античностью и ее эриниями, а с Грецией, принявшей Христа. Наследницей Греции была для поэта не «бездетная Византия», а Россия и русское православие. Но это все позже, это наполнит новую книгу «Tristia», а в «Камне» Мандельштам поет цезарийский Рим, принявший первых христиан, и папский Рим с троном наместника Бога.
И все же в «Камне» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великолепной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что «никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предсказывающих новый этап поэтической работы:
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
А завершает книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Расина: «Я не увижу знаменитой „Федры“». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наши игры…»
Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tristia», начинаются опять же с «Федры», но уже не Расиновой, а той, что в каменной Трезене запятнала трон мужа своего Тезея. Мандельштам обретает не воображаемую, а на ощупь, Грецию в каменистой Тавриде[1], в той части Крыма, что так похожа на Пелопоннес: от Керчи до Судака, с греческой Феодосией, с Коктебелем, чьи низкорослые пыльные акации похожи на оливы и где на берег выбросило обломок Одиссеева весла. Одно из самых его величавых стихотворений посвящено Тавриде: «Золотистого меда струя из бутылки текла…» Завершается оно бессмертными словами: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, // Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Ну а вершина сборника — «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…». Самый сильный мотив этих стихов — расставание. Это имеет почву в биографии поэта: совершилась Октябрьская революция, и началась для него пора разлук и странствий — нищая одиссея.