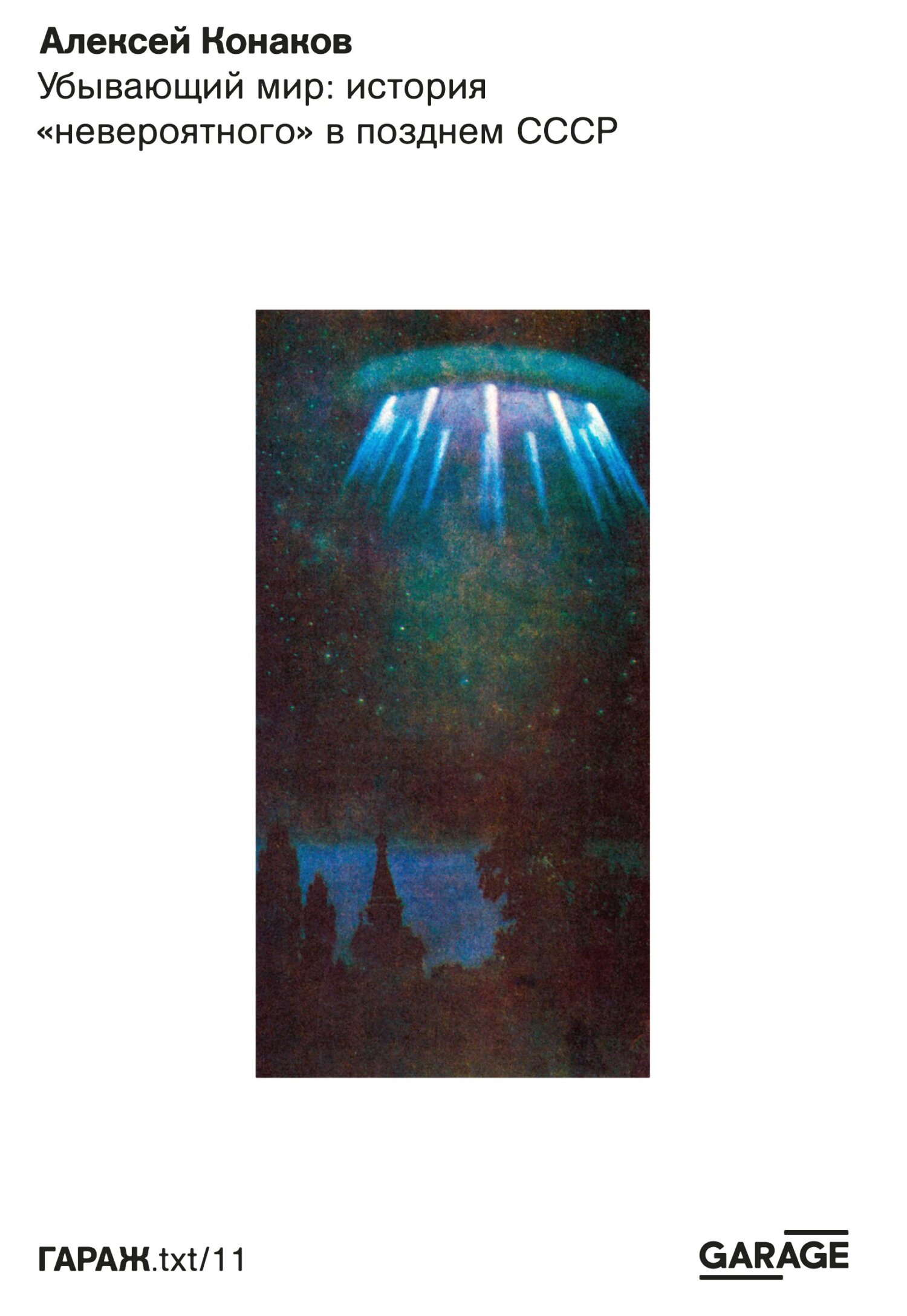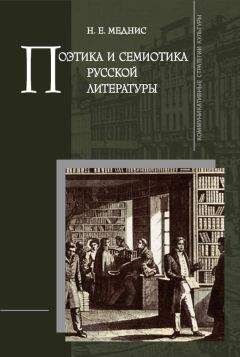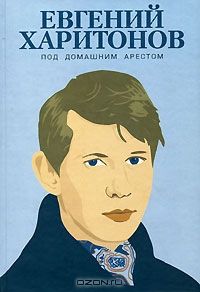и циклы верлибров, и оперные арии, и роман в стихах, и два манифеста, и пять уникальных текстов на стыке поэзии и прозы, жанр которых напоминает не то «Опавшие листья» Василия Розанова [42], не то «Записные книжки» Антона Чехова [43]. Все вместе это образует своеобразный канон, который Харитонов лично создал и утвердил: «Не все ЛУЧШЕЕ, а все НУЖНОЕ из того, что писал он долгие годы, собрал он под одной обложкой, издав сам себя в четырех экземплярах», – вспоминает Евгений Попов (2:107). Несомненно, очень важную роль сыграло то обстоятельство, что Харитонов закончил «Под домашним арестом» за несколько месяцев до собственной смерти, весной 1981 года, – в связи с чем книгу практически сразу стали интерпретировать как воплощение «последней воли» автора, как продуманное «подведение итогов» многолетней литературной работы: «Он умер, дописав то, что хотел» [44], «чудо какое-то – он умер только тогда, когда собрал, сделал свою книгу с названием „Под домашним арестом“, где много размышлений о смерти, все последние месяцы он спешил, ею только и занимался» (2: 96), «он выполнил свою задачу, и результатом, итогом его жизни стала эта книга, полное собрание сочинений Харитонова» (2:192).
Подобный телеологизм красив, но может вводить в заблуждение.
Харитонов не собирался умирать после составления «Под домашним арестом», не собирался бросать литературные занятия; и он вообще вряд ли рассматривал напечатанную книгу как действительно связное художественное высказывание. Вероятнее всего, цель «Под домашним арестом» была не столько концептуальной, сколько логистической – надежно и быстро переправить тексты на Запад для их возможной публикации в издательстве Карла Проффера Ardis (499). И потому в «Под домашним арестом» не следует искать какого-либо содержательного или стилистического единства – вошедшие в книгу произведения объединены лишь «авторедакторским» жестом (решением Харитонова включить в собрание ту или иную вещь) и медиалогической практикой (тексты напечатаны подряд, на пишущей машинке, и переплетены в книжку). Собственно, до создания «Под домашним арестом» сам Харитонов четко делил основной корпус своих работ на три части: «Из того, что написал в последние 11 лет, я собрал три [рукописные] книги: 1. Духовка. Вильбоа и другие стихи. Жизнеспособный младенец. Один такой, другой другой. По канве Рустама. Алеша Сережа. Сцены. Поэма. Жилец написал заявление. А., Р., я. Покупка спирографа. Роман в стихах. 2. Роман. 3. Слезы об убитом и задушенном. Непьющий русский. Рассказ одного мальчика: „Как я стал таким“. Слезы на цветах. Мечты и Звуки, стихи» (497). В машинопись «Под домашним арестом» войдут все эти «три книги» – и еще три произведения («В холодном высшем смысле», «Листовка», «Непечатные писатели»), сочиненные чуть позже.
И можно заметить, что вся первая половина «Под домашним арестом» (от «Духовки» до «Романа в стихах», 1969–1978) – довольно аморфная в концептуальном и стилистическом отношении масса, из которой, с течением времени, могло бы образоваться практически все что угодно. Ключевыми (решительно отделяющими указанные тексты от написанного Харитоновым ранее) здесь были лишь два решения автора: 1) использовать авангардистскую технику письма и 2) исследовать проблематику гомосексуальности в Советском Союзе. В остальном творческое движение Харитонова кажется совершенно произвольным. Автор создает и вязкую прозу («Алеша Сережа»), и лаконичные стихи (цикл верлибров «Вильбоа»); пробует и протяженные («Роман в стихах»), и малые («Жилец написал заявление») формы; уходит то в откровенный сюрреализм («Один такой, другой другой»), то в тонкий психологический реализм («Духовка»). Эти стилистические поиски интересны сами по себе; важны они и для понимания последующих текстов – ибо на пространствах первой половины «Под домашним арестом» было найдено некоторое количество формальных решений, успешно использовавшихся автором в дальнейшем.
И тем не менее – настоящий, великий Харитонов начинается только во второй половине «Под домашним арестом».
Вот описание Харитоновым своего стиля, сделанное в 1981 году (в письме к Василию Аксенову):
Здравствуйте, уважаемый Василий Павлович! Я собрал книгу и хотел бы ее кому-нибудь предложить вот в таком виде. Представляю себе только репринт. Ни один наборщик не воспроизведет точно всех искажений, зачеркиваний, пропусков, опечаток, а только добавит своих. И, я уверен, рукописность, машинописность – образ такой книги и такого рода писательства. Тогда многое очевидно (в буквальном смысле) в ее интонации, в содержании. Оно в самом процессе думания и писания, как человек что-то все время начинает писать, сбивается, берется снова, а вот что-то закруглилось и похоже на вещь; субъект в его речевых реакциях, фатально привязанный к своей «карме» и в ней находящий художеств, моментами с удовольствием вырывающийся в «реакционность» – когда выходит на идейный предмет разговора – ну, вот как жителям Острова Крым нравится пафос Империи (пока с ней реально не столкнутся) – ведь этот «я» тоже житель островка уединения и реально не ввязан в общественную жизнь, не испытывает ее кабаньего давления, а когда испытывает, то гневается, как гимназист; этот «я» не дозирует гомосексуальных описаний, он не Олби, не Болдуин, не Теннесси Уильямс, не связан с законами, пусть даже все предусматривающими, литературного рынка, не знает обхождения с читателем, он келейный, из подполья; и в этом образ (498).
Множество «искажений, зачеркиваний, пропусков, опечаток»; «человек что-то все время начинает писать, сбивается, берется снова». Ничего этого (так же как и «пафоса Империи» и действительно «не дозированных» «гомосексуальных описаний») мы не отыщем в текстах из первой половины «Под домашним арестом». Названные Харитоновым приметы стиля характерны лишь для нескольких его поздних произведений; очевидно, именно с этими поздними произведениями Харитонов отождествляет всю свою литературную работу в момент подготовки письма Василию Аксенову.
Произведений этих немного – всего пять вещей, написанных Харитоновым в последние три года его жизни (1979–1981): «Слезы об убитом и задушенном», «Непьющий русский», «Роман», «Слезы на цветах», «В холодном высшем смысле». Но именно в них являет себя читателю действительно выдающийся автор – изобретатель удивительной стилистики, отражающей противоречия эпохи позднего социализма, мастер уникальной интонации, вмещающей восторг и ужас бытия в советском государстве, «человек уединенного слова», решивший, наконец (спустя полтора десятилетия колебаний), заниматься только литературой. Названные вещи позднего Харитонова, – по аналогии с «великим пятикнижием» позднего Достоевского, – можно было бы условно обозначить как «великое пятичастие». К «великому пятичастию» примыкают еще три небольших текста – «Рассказ одного мальчика», «Листовка», «Непечатные писатели» (сочиненные в тот же период времени и выдержанные в сходной манере, они более всего напоминают фрагменты, то ли случайно отколовшиеся, то ли специально не включенные в какое-то из пяти «главных» произведений).
Таким образом, наше дальнейшее исследование будет в основном сосредоточено именно на фигуре позднего Харитонова и на текстах его «великого пятичастия».
Одним из важнейших вопросов, требующих