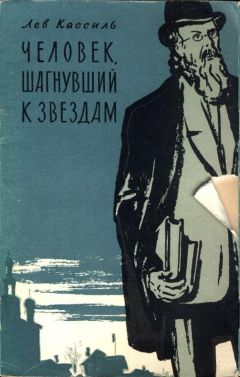Мне не раз крепко и обидно доставалось от так называемой литературно-педагогической критики. Ругали меня: за «ложную занимательность»; за «ложную романтику»; за «засорённость языка» моих героев; за «антипедаго-гизм», то есть неуважение к старшим, и за иные смертные грехи, в которые я впадал, по мнению некоторых неулыбчивых критиков. Повинен ли я на самом деле в этих грехах или на меня возвели напраслину скукодеи, кашевары пресной назидательной размазни, поставщики сосок двора её высочества царевны Несмеяны, — судить не мне… Но я всегда старался найти хоть что-нибудь справедливое и, значит, полезное для себя даже в самой отчаянной ругани. И думаю, кое-что из этого пошло мне на пользу.
Но как порой трудно ни приходилось, никогда я не жалел, что выбрал для себя путь, ведущий к ребятам. Мне всегда интересно быть с ними. Я и сейчас пользуюсь каждой возможностью, позволяющей встретиться с моими читателями с глазу на глаз и нос к носу. Для этого мне пришлось научиться выступать перед ребятами. Это далось мне не сразу: я робел и перед взрослой аудиторией, куда более смирной, чем детская, да и дикция была у меня от природы нечёткая. Ещё на школьных вечерах, когда мне поручали объявить перерыв, я потел от ужаса, язык у меня завязывался узлом, и у меня получалось не то «трактат», не то «контракт», но никак не «антракт»… Тут я тоже многим обязан Маяковскому, который сам был непревзойдённым чтецом, как он называл себя — «разговорщиком» на трибуне, и нас призывал к умению лично договариваться с читателями.
Было время на первых порах моей работы, когда я считал самым важным для себя во что бы то ни стало рассмешить моего читателя. Я не отказываюсь от любой такой возможности и сегодня. Ибо вряд ли есть на свете что-нибудь более радостное, чем дружный, весёлый ребячий смех. Но уже давно мне стали не менее дороги, чем хохот и аплодисменты, сотни замерших, уставившихся прямо на меня глаз, доверчивая тишина в переполненном ребятами зале, когда слышишь, кажется, как стучат что есть силы сердчишки, до которых удалось добраться…
…Тут и хочу я сказать о нём, милом моем читателе.
Он всякий. И шумный, непоседливый, такой, что не сразу угомонишь. И весь ушедший в самозабвенное внимание, беззвучно, сам того не замечая, повторяющий за мной то, что слышит. Он смотрит на меня поверх школьной парты, которая ему немножко велика. Он взвивается от нетерпения с кресла в театральном зале. Он забился где-то в отдалённом уголке пионерской комнаты и неуверенно поднял руку: ему очень хочется о чём-то спросить, он не в силах справиться со своим любопытством, но не побороть и неизбывной застенчивости, и лучше бы уж поднятую руку его не заметили… Он встречает меня на большой московской улице, узнает, показывает на меня глазами своему приятелю, попутно пихая его локтем в бок так, что тот охает. И оба они кричат своё радостное: «Здравствуйте!» — заставляя всех прохожих оглянуться на нас. А потом вдруг через квартал я снова встречаю их обоих, и опять: «Здравствуйте!» — потому что они успели обежать улицу по другой её стороне, чтобы снова ещё раз встретиться…
Он встаёт, поправляя красный галстук, который кажется пылающим в отблесках лагерного костра, и просит рассказать что-нибудь «из военной жизни». Он рано утром, чуть свет будя всех моих домашних, звонит у входной двери, салютует по-пионерски и сообщает, что прибыл по неотложному поручению всего шестого «Б», так как у них будет сегодня сбор на тему: «В чём смысл жизни?».
Как сказано у Михалкова, «он девочка, он мальчик», — словом, он мой читатель, ненасытный, неожиданный, беспокойный, благодарный, доверчивый, дорогой мой дружок.
Незадолго до войны на Красной Пресне, в зале театра имени Ленина, возле Трехгорной мануфактуры, шёл большой литературный утренник для ребят. Выступал, можно сказать, весь генералитет нашей детской литературы. И Самуил Яковлевич Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Аркадий Петрович Гайдар, и Агния Львовна Барто, и Сергей Владимирович Михалков, которого, правда, тогда все ещё звали просто Серёжей. В этой «могучей» кучке подвизался в тот день и я. Мы выступали очень долго, приободрённые раздававшимися то и дело дружными аплодисментами. А потом я решил поговорить с ребятами.
— Ну, дорогие дружочки, — сказал я, выйдя на авансцену, — вот ваши любимые писатели и поэты прочли вам свои стихи, рассказы. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы к нам? Давайте выкладывайте, не стесняйтесь!
После некоторой паузы и безмолвного шевеления примерно над пятым рядом поднялась рука, за рукой вытянулась девица, на глаз эдак из четвёртого или пятого класса. Несмотря на то что в зале, где сидело примерно тысяча ребят, было очень жарко, девочка оставалась в толстой пуховой шали, как её, должно быть, укутали дома: вокруг головы, концами крест-накрест на спине и с узелком на поясе спереди.
— Внимание! — скомандовал я залу. — Вот девочка в пятом ряду хочет о чём-то спросить у писателей. Ну, прошу!
И в полной тишине раздался чистый, очень звонкий голосок:
— Кино скоро будет?
С того дня я перестал чересчур доверяться ребячьим аплодисментам. Здоровому мальчишке куда легче похлопать ладонью о ладонь, чем тихо высидеть четверть часа. Но у меня есть давно уже другой измеритель степени внимания зала. Вот когда все в зале замирает и на тебе, словно радужные зайчики, сходятся отблески сотен внимательных глаз, — вот в эти минуты, всегда желанные, где-то в зале раздаётся лёгкий звенящий щелчок — дзинь!.. Сначала один, а потом в другом месте ещё… И ещё… дзинь.., дзинь…
Это начинают падать на пол металлические или плексигласовые номерки из гардероба.
Дело в том, что одним из самых величайших несчастий, которые могут мниться моим слушателям, представляется потеря номерка от сданного пальтишка или шапки. Как в таком разе вернуться домой?! И большинство предпочитает держать номерок в руке — так вернее. И вот сначала у слушателей открываются широко глаза, потом рты и, наконец, ладони. И когда в зале падают гардеробные номерки, я спокоен: всё в порядке, слушают внимательно.
…Не стоит обижаться на читателя, если он не твёрдо заучил фамилию автора. В фамилии какой толк?.. Важнее, чтобы он запомнил книгу.
Как-то я, ожидая начала киносеанса, сидел на скамейке у одного из перекрёстков больших аллей столичного Парка культуры и отдыха имени Горького. Сидел, читал газету. Солнце светило из-за спины. И вдруг оттуда наползли две тени. Одна длинная, другая покороче. Не оглядываясь, я пригласил:
— Ну что вы там хоронитесь на задворках? Заходите с парадного крыльца.
Передо мной появились две школьницы. Коротенькая сказала:
― Здравствуйте. Мы вас знаем.