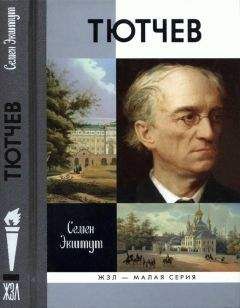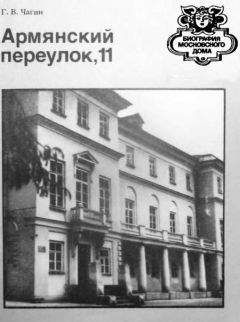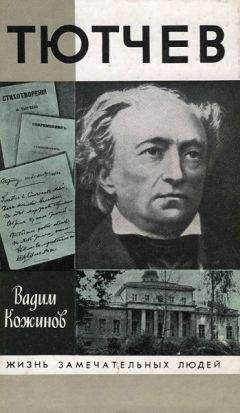Итак, Иван Николаевич Тютчев, хотя и поселился в Москве, московским бригадиром не был. Однако это не помешало ему в 1798 году взять в жены родовитую московскую барышню Екатерину Львовну Толстую, которая с детских лет воспитывалась в богатом доме своей замужней, но бездетной тетки графини Анны Васильевны Остерман. Первый тютчевский биограф особо отметил, что поэт «чрезвычайно походил на свою мать» и охарактеризовал Екатерину Львовну как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности»{22}.
После свадьбы супруги Тютчевы уехали из Москвы и поселились в Овстуге, где у них родились два сына: в 1801 году Николай, а через два года, 23 ноября 1803 года, — сын Федор, будущий великий русский поэт. Дети Ивана Николаевича и Екатерины Львовны получили великолепное домашнее образование, что кроме больших денег требовало и немалого родительского попечения: даже в Первопрестольной сыскать хороших наставников было делом нелегким. Лишь спрос может родить предложение, а в начале XIX века дворяне нередко считали «образование скорее роскошью, чем необходимостью»{23}. Иван Николаевич был не таков. Его старший сын Николай, кроме правил русского языка, был обучен языкам немецкому и французскому, а также арифметике, алгебре, геометрии, истории, географии, полевой фортификации и даже рисованию{24}. Всему этому он научился дома, после чего решил продолжить образование в Школе колонновожатых. Школа была основана в Москве генерал-майором Николаем Николаевичем Муравьевым и предназначалась «для приготовления молодых людей к службе по квартирмейстерской части»{25},[4] то есть готовила квалифицированных штабных офицеров. Николай Тютчев дослужился впоследствии до чина полковника Генерального штаба.
* * *
Младший сын Федор прекрасно освоил практическую российскую словесность, в совершенстве овладел обязательным для просвещенного дворянина французским языком, имел основательные познания в немецком, был превосходно обучен латыни и сохранил это знание на всю жизнь. Его учитель Семен Егорович Раич (Амфитеатров), по авторитетному свидетельству, «имел большое влияние на умственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил в нем литературное направление»{26}.
Этот человек достоин того, чтобы сообщить о нем некоторые подробности. Однажды один издатель предложил Раичу за его стихи деньги. Гордо подняв голову, он ответил: «Я — поэт, и не продаю своих вдохновений!»{27} И это было сказано не столбовым дворянином и наследником родовых имений, а разночинцем, который постоянно шел по жизни рука об руку с нуждой. Раич писал стихи, но считал позором получать за них авторский гонорар, много переводил латинских и итальянских поэтов, издавал журнал, однако всё это не снискало ему никакого успеха, в том числе материального — и в истории русской литературы он навсегда остался поэтом второстепенным и незначительным. Пушкин в эпиграмме походя назвал его «мелкой букашкой»{28}. Характеристика хлесткая и во многом точная, но было бы грубым упрощением свести трудную жизнь и нелегкую литературную судьбу этого человека к одной-единственной строчке из пушкинской эпиграммы. «Это был человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием»{29}. Можно только удивляться, как он ухитрился пронести это «младенческое незлобие» сквозь всю свою беспросветную, нищую жизнь!
Другим богатств своих не счесть,
А мне — отверженцу судьбины —
Назначено брань с нуждой весть
И… в богадельне ждать кончины…{30}
Раич родился в семье сельского священника Амфитеатрова, обремененного большой семьей и с трудом сводившего концы с концами. Сыну Семену, в бытность того в семинарии — сначала в Севске, а потом в Орле, отцом выдавались всего лишь два рубля в год «на бумагу, перья, чернила, лакомства и другие неопределенные траты»{31}. Заветной мечтой юноши, у которого рано проявилась тяга к стихотворству, было приобретение собрания сочинений Державина. Семен окончил духовную семинарию и, согласно обычаю, избрал себе новую фамилию — Раич (по месту своего рождения в селе Рай-Высокое). Однако принять сан он не захотел, твердо решив порвать с духовным сословием, что было для начала XIX века поступком неординарным. «По окончании полного курса наук в Семинарии решился я оставить духовное звание по многим причинам; важнейшие из них две: 1) я считал себя неспособным исполнять священную обязанность служителя Божия, 2) любознательность, темное предчувствие чего-то, ожидавшего меня впереди, и непреоборимое желание удовлетворить требованиям духа, наперекор всем препятствиям, влекли меня в Москву, в Университет»{32}. Препятствий и мытарств на пути Раича действительно встретилось с избытком. Отец благословил его «маленьким кипарисным образом», но не мог дать денег ни на дорогу, ни на обучение в университете. Раич побывал и канцеляристом земского суда в Рузе, уездном городке Московской губернии, и домашним учителем во многих помещичьих семьях — и всё это только ради насущного хлеба и возможности в качестве вольнослушателя посещать лекции в Московском университете.
В доме Тютчевых Раич появился вскоре после изгнания французов из Москвы и прожил семь лет. «…Провидению угодно было вверить моему руководству Ф. И. Тютчева, вступившего в десятый год жизни. Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, — так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум! <…> Это время было одной из лучших эпох моей жизни. С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах, когда, бывало весной и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф<едором> И<вановичем> выходили из дома, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений!»{33} Эти сладостные для Раича часы, когда он готовил своего воспитанника к поступлению в университет, протекали в памятном нам селе Троицком. Холмик, на котором сидели два поэта, вполне мог оказаться безымянной могилой одной из многочисленных жертв Салтычихи.