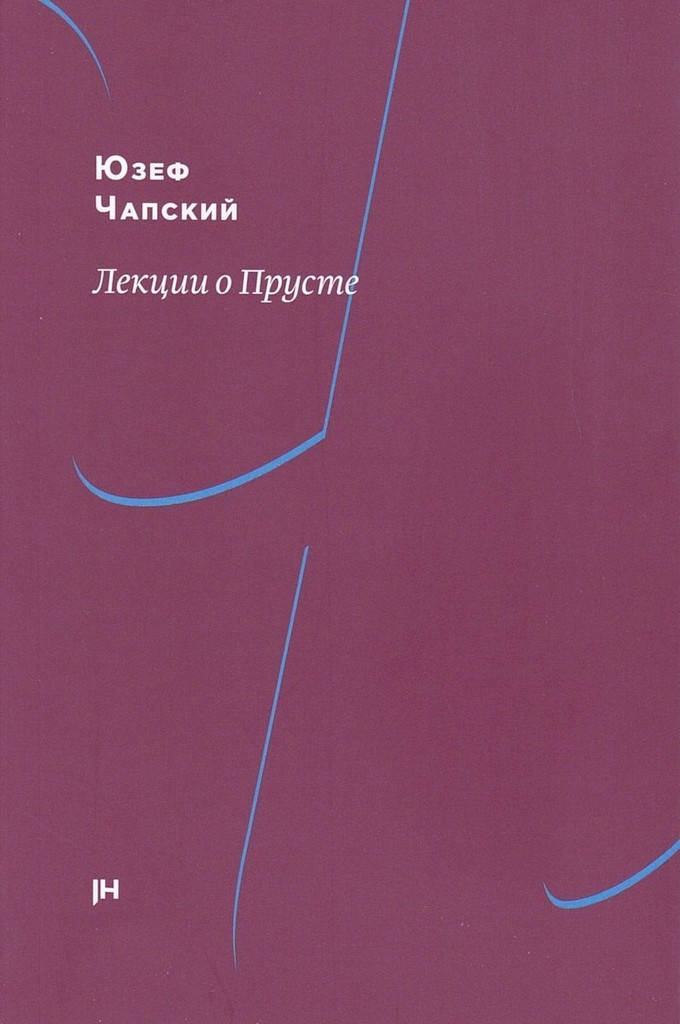самой неудобной позе — лежа, опершись на правый локоть, и даже сам в своих письмах упоминает, что «писать для него — мучение».
Я уже рассказывал вам, какую огромную роль в жизни болевшего с детства Пруста сыграла его мать. Она обожала его, ухаживала за ним, не покидая почти ни на минуту. Пруст со своей женственной природой до самой смерти матери дышал этим воздухом редкостной и умной нежности. Часто в пылу сентиментальных, интеллектуальных или артистических страстей он, наверное, забывал, насколько она ему необходима. А она вопреки всему верила в его талант, в его гений, в то время как друзья юности считали его снобом и неудачником, а отец, человек деятельный и реалистичный, в образе жизни сына видел только досадную пассивность и неспособность сделать карьеру. Именно на отношения героя книги с его бабушкой Пруст переносит все оттенки своей любви к матери, своего юношеского эгоизма, зачастую своей неспособности понять, до какой степени материнская (в романе — бабушкина) любовь к нему была абсолютной, бескорыстной и возвышенной. Холодная точность, с которой спустя немалое время после смерти матери он неуловимыми намеками обличает жестокость своей юности, свою собственную жестокость, еще раз доказывает, насколько писатель, анализируя себя, был свободен от всякою самолюбия, от всякого желания если не приукрасить, то хотя бы немного подретушировать собственный образ. Один пример: молодой герой, мальчик пятнадцати или шестнадцати лет, проводит вечера на Елисейских Полях, где встречает девушку, Жил ьберту (дочь Одетты, бывшей, после Жанны, любовницы Свана). Ужин, во время которого он сгорает от нетерпения снова оказаться на Елисейских Полях, по силе переживаний можно сравнить с мучениями маленького мальчика, ожидающего вечернего появления матери в старом загородном доме много лет назад. Однажды его бабушка, тогда уже тяжело больная, сильно задерживалась и не вернулась со своей ежевечерней прогулки в экипаже перед ужином. Герой отмечает первым делом пришедшую ему в голову мысль: «У бабушки, наверное, снова случился сердечный приступ, может быть, она умерла, и я из-за нее опоздаю на свидание на Елисейских Полях». И добавляет с той же отстраненной объективностью и как будто безразличием: «Когда любишь кого-то, не любишь никого» [10]. Эти черты бесконечно углубляют светлые и темные стороны сыновней привязанности и материнской любви, неся на себе следы интимных душевных состояний и эмоций. Мать Пруста умерла в 1904–1905 году [11]. Это первое настоящее горе, первая серьезная потеря, пережитая писателем. Вся его светская жизнь, нервная, несчастливая, хаотичная, стоившая невероятного труда, усугублявшая его болезненное состояние и заставлявшая по этим двум причинам так сильно, хотя и затаенно, страдать его мать, разбивается вдребезги. Пруст, убитый горем, надолго исчезает из поля зрения своих светских друзей. Именно тогда мечта матери видеть сына писателем начинает преследовать его настойчиво и решительно. Не написав до сих пор ничего, кроме нескольких светских статей и нескольких юношеских, но уже полноценных страниц («Улица Тополей, увиденная из окна автомобиля» [12] и «Утехи и дни», никем тогда не замеченные), понимая свою неспособность пока что взяться за серьезное произведение, но уже чувствуя его внутри себя, Пруст начинает усиленно работать, всерьез берется за литературный труд, который формирует в нем способность писать не только под влиянием мимолетного вдохновения, но ежедневно и с усилием. Он решает перевести полное собрание сочинений Джона Рёскина. Рёскин оказал огромное эстетическое влияние на поколение Пруста. Открытие итальянского примитивизма, культ Венеции, обожание Боттичелли в 1890–1900 годах — все это идет от текстов Рёскина. Пруст издает своего Рёскина с собственным огромным предисловием. Так он начинает второй жизненный этап, с той же страстью, с той же неумеренностью, с какими он бросался в водовороты светской и чувственной жизни. Пруст погружается в литературную работу. С этого момента и до самой смерти он все сильнее замыкается в своей пробковой комнате. До самого последнего времени его еще можно было иногда встретить в салонах или в отеле «Ритц», но это были лишь эпизодические выходы, когда писатель оттачивал, проверял или «ботанизировал» материал для своей новой огромной Человеческой комедии.
Медленный и болезненный процесс трансформации человека страстного и сугубо эгоистичного в человека, полностью отдающегося тому или иному своему произведению, которое его сжирает, уничтожает, питаясь его кровью, — это процесс, который ждет каждого творца. «Если зерно не умрет…» В случае творца-художника эта трансформация происходит по-разному, более или менее осознанно, но случается почти с каждым. Гёте говорил, что в жизни каждого творца биография должна и может иметь значение до тридцати пяти лет, а после этого начинается не жизнь, а результат борьбы с предметом его творчества, который должен занимать центральное место и все сильнее поглощать внимание художника [13]. Но редко когда разрыв между двумя жизнями человека бывает настолько резко обозначен. Конрад, покидавший корабль в тридцать шесть лет, окончательно прощаясь с морем, чтобы взвалить на себя огромный труд своего литературного творчества, кажется мне в чем-то похожим примером. Коро, наоборот, производит впечатление художника, не знавшего драм и битв. Этот сын провинциального портного, с совершенно серой и неприметной биографией, всегда оставался верным своей единственной любовнице — искусству. Прошу не забывать, что я намеренно сильно упрощаю тему, которая завела бы меня слишком далеко. И тем не менее полагаю, что не обижу Коро, если скажу, что необычайная гармоничность и нежность его произведений, их драгоценная огранка и то равновесие, благодаря которому он избежал всех бурь современности, благодаря которым он укрылся от времени, кажутся мне тесно связанными с его отношением к жизни.
Какими комичными выглядят замечания знакомых или поверхностных читателей Пруста о его снобизме! Что может значить это слово в отношении писателя такой величины, который наблюдает за светским обществом с такой ясностью и отстраненностью?
Пруст все больше ведет ночную жизнь. Ему становится хуже год от года. Один из многих странных симптомов его болезни выражается в том, что он всюду мерзнет. Носит одежду на меховой подкладке. На всех рубашках коричневые пятна, потому что перед тем, как надеть, он греет их «дочерна». В салонах для самого узкого круга, где еще несколько лет назад был завсегдатаем, он еще появляется время от времени, но всегда к шапочному разбору; тогда, еще более блестящий, чем прежде, он становится центром всеобщего внимания и своей живостью удерживает всех до самого утра. В какое-то невообразимое время суток его видят иногда в отеле «Ритц», пристанище парижских мотов и гуляк. За исключением этих редких вылазок он никуда не выходит;